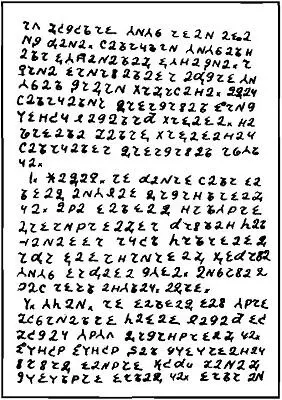С 1990-х гг. албанская письменность стала объектом откровенной фальсификации. В 1990 г. была опубликована статья X. Мустафаева, в которой была предпринята попытка дешифровки и чтения Мингечаурской надписи на постаменте на основе азербайджанского языка [428], хотя авторитетные исследователи, опираясь на исторические свидетельства и анализ албанского алфавита, давно предполагали близость албанского языка к современному удинскому, относящемуся к лезгинской подгруппе дагестанской группы языков. С этого же времени (и ранее) некоторыми азербайджанскими исследователями были предприняты грубые и несостоятельные попытки доказательства исконно тюркской этноязыковой принадлежности таких восточнокавказских племён, как албаны, удины, гаргары и др. [429]
Своеобразной ответной реакцией, получившей широкий общественный резонанс, стало «обнаружение» в 1991 г. «страницы из неизвестной албанской книги», о чём поведал журнал «Лезгистан» [430]. В анонимной заметке, сопровождавшейся публикацией этой «страницы», отмечалось, что «текст книги, написанной албанскими буквами, ещё не прочитан», сообщалось о неких лицах, владевших рукописью и снявших с неё копию, и содержалось обращение к читателям с просьбой проинформировать журнал о владельцах книги и её судьбе. При этом редакция журнала не рассказала читателям о том, как попала к ней «страница из старинной книги» и кто сообщил о её владельцах, не зная что-либо о них. Замечу, что в дальнейшем сведения об этих лицах так и не появились в печати.
Два года спустя профессор, доктор химических наук Я. А. Яралиев успешно дешифровал текст этой страницы на основе современного лезгинского языка, о чём широко поведали весной-летом 1993 г. национальные газеты «Алпан», «Самур», «Садвал», «Лезгистан хабарар», «Лезги газет», «Дагестанская правда». В дальнейшем обнаружились и копии остальных 49 страниц рукописи, получившей название «Албанская книга». Полный перевод её, сделанный Я. А. Яралиевым, был первоначально опубликован в газетах «РикIин гаф» («Сердечное слово») и «Лезги газет» («Лезгинская газета»), а затем отдельной книгой вместе с факсимиле копии, с переводом албанских и псевдоалбанских эпиграфических памятников, соответствующими комментариями и эссе о Кавказской Албании и генетических корнях лезгинского языка [431].
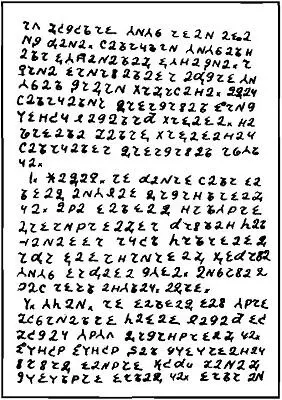
Страница фальшивой «Албанской книги»
Это «открытие» получило большой резонанс в местной прессе и было преподнесено как «сенсация века», «открытие мирового значения», приравниваемое к открытию Трои, а о самой подлинности рукописи говорили, что она «не вызывает сомнения». Как заявил в интервью газете «Лезгинский вестник» ректор Института ЮЖДАГ, профессор, доктор философских наук Н. О. Османов, «профессора Яралиева Ярали, который разгадал тайну древнеалбанской письменности, Учёный совет Института собирается представить на соискание Нобелевской премии» (!) [432]. Ректора не смутило то, что правом выдвижения обладает только определённый круг учёных-номинаторов, определяемый Нобелевским комитетом. По-видимому, ректор не знает об этом.
В своих предисловиях Я. А. Яралиев сообщает, что фотокопии этой рукописи, хранившиеся в архиве покойного лезгинского поэта 3. Ризванова, были переданы ему его сыном Д. Ризвановым, а сама рукопись «в объёме отдельных 50 страниц плотной пожелтевшей бумаги с голубоватым оттенком» находилась у поэта и в дальнейшем бесследно исчезла» [433]. Странно, что рукопись была «в объёме отдельных 50 страниц». Очевидно, «переписчик» (в отличие от средневековой нормы) использовал только одну сторону листа для письма, хотя следовало ожидать более экономное отношение к бумаге. Замечу, что в своих публикациях в «Дагестанской правде» об этом «открытии» другой сын поэта, тогда журналист, а ныне ответственный работник Министерства по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан Р. Ризванов, ничего не сообщал о происхождении рукописи и её копии, отмечая лишь «обнаружение» древнеалбанского текста, «чудом сохранившегося до наших дней», и информируя читателей, что газета «Самур» написала на днях «о находке ещё 49 страниц древнеалбанской рукописи», дешифровкой которых занялся профессор А. Мусаев [434].
Сразу отмечу, что ни дешифровщики, ни журналисты, писавшие об «открытии древнеалбанской рукописи», ее не видели. Настораживало не только само отсутствие оригинала, которым якобы кто-то владел, снимал с него копии, но и странное «исчезновение» рукописи, «всплытие» копий в различных местах и т. д. Удивляло и то, что «текст оказался написанным на чистейшем лезгинском языке… и настолько понятным, словно был написан ещё вчера» [435], хотя речь идёт о «рукописи», якобы созданной более десяти веков назад. Напрашивался целый ряд вопросов относительно окутанного вуалью таинственности обнаружения и происхождения рукописи и её копий, заслуживающие самостоятельного «расследования», которое, впрочем, ни к чему не привело бы, ибо перед нами возник откровенный фальсификат-«подкидыш», который воистину «был написан ещё вчера».
Читать дальше