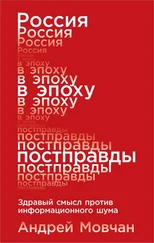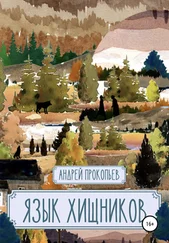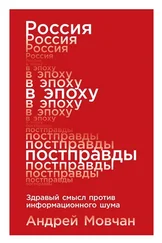Последующие исследования Вольфганга Райнхарда и Хайнца Шиллинга всесторонне развили модель, предложенную Э. В. Цееденом, введя понятие, характеризовавшее эпоху в целом: конфессионалиэация . «Укрепление формирующегося современного государства, — пишет B. Райнхард, — требовало религиозную нетерпимость как предпосылку… Религиозная суть времени распространялась также и на политику, в свою очередь политическая сила охватывала церковь и религию. Созревание ранних форм современной государственности не могло, таким образом, следовать независимо от конфессиональных проблем» [18. S. 268]. ««Конфессия», — заключает X. Шиллинг, — будет использоваться в последующем как основополагающая категория в исследовании раннего Нового времени, без которой невозможно, по меньшей мере для XVI и большей части XVII в., приобрести ясное представление о развитии всякой общественной системы той поры, равно как и о ее динамике… Подобный подход оправдывает для меня определение того времени как «Конфессиональная эпоха»"[23. S.22]. Можно утверждать, что в последние два десятилетия XX в. концепция, представленная X. Шиллингом, оказалась самой дискуссионной. X. Шиллинг стремился представить конфессии главным интегралом всего общественного развития в раннее Новое время. Ученый предпринял попытку перестроить церковную историю— столь традиционную тему для немецкой исторической науки! — в историю верующих, в тотальную историю самого социума. Здесь X. Шиллинг, безусловно, следовал концепции Э. В. Цеедена и вместе с тем максимально полно развивал постулаты М. Вебера. Сообразуясь со своими взглядами, историк критиковал структуралистов, вышедших из школы бруннеровской социологии (Ф. Пресс, Й. Энгель). Они, по мысли X. Шиллинга, напрасно пытаются вычленить аспект религиозно-церковной жизни лишь в одну из структур, поставить ее рядом с социально-политическими и социокультурными учреждениями. Общество в своем развитии все еще являло достаточно органичное целое. Очень сложно разграничить духовные и мирские ипостаси в Европе раннего Нового времени.
Однако сам исследователь оказался в тупике не столько концептуального, сколько методологического плана: в своих работах он едва ли сумел преодолеть структурный метод анализа, в том числе сквозь призму институционного развития. Создавая впечатляющую панораму XVI в., X. Шиллинг вынужден был во многом следовать классической методике структуралистов. Тем не менее большинство молодых немецких историков вышедших из семинаров Э. В. Цеедена (П. Мюнх, X. Клютинг), в основном поддержало концепцию X. Шиллинга.
Возражения последовали преимущественно из рядов историков-социологов. Винфрид Шульце скептически отнесся к желанию X. Шиллинга интерпретировать социальную жизнь через связующий компонент конфессий, что в конце концов превращает любые формы развития лишь в то или иное отражение богословских идей, без внимания к собственно социальным мотивам. Более продуктивным, считает В. Шульце, был бы анализ в первую очередь самого общества, внутри которого растворялась конфессия. Таким образом, методологическая схема — от церковной истории к всеобщей истории общества заменялась бы иной — от всеобщей истории общества к его религиозному составляющему.
Нельзя, впрочем, утверждать, что разногласия носят принципиальный характер. И у X. Шиллинга, и у его оппонентов мы видим желание всесторонне исследовать «всеобщую историю», на пути которого стоят и поныне во многом еще не разрешенные методологические препоны.
В любом случае, однако, невозможно не видеть широкого социально-исторического охвата, восторжествовавшего за последние годы в работах многих историков. В центре внимания оказалось и само сословное общество (проблемы города в работах Б. Меллера, крестьянства в исследованиях П. Бликле, дворянства у Ф. Пресса), и социально-политическая структура Старой Империи (император, рейхстаг и правительственные институты в работах Ф. Пресса и К. О. Аретина). При всех различиях постепенно стали заметны новые контуры, казалось бы, старых, хорошо исследованных процессов. Прежде всего наметилась переоценка политических структур старой Империи в конфессиональное столетие. Историками были выявлены ресурсы стабильности императорской власти, не позволившие Габсбургам окончательно утратить лидирующие позиции на форуме имперских князей и в годы Реформации, и после Аугсбургского мира, и — что особенно важно — после окончания Тридцатилетней войны. Имперские властные учреждения, авторитет самого императора, возможности традиционных рычагов управления позволили преодолеть острые кризисные моменты в конфессиональное столетие. Империя избежала крайности децентрализации, распада на территориально-государственные составные.
Читать дальше
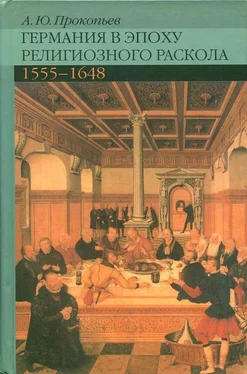

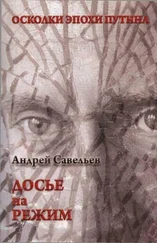

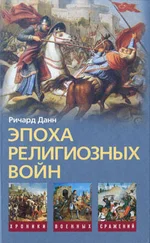
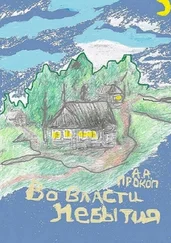
![Александр Собянин - Подмосковье. Эпоха раскола [litres]](/books/409371/aleksandr-sobyanin-podmoskove-epoha-raskola-litr-thumb.webp)