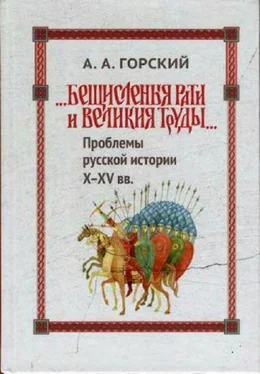ДДГ. № 89. С. 354, 356.
Там же, № 19. С. 53.
Там же. С. 53–54.
ДДГ. № 16. С. 43; № 17. С. 47; Дебольский В. Н. Духовные и договорные грамоты… Ч. 2. СПб., 1902. С. 2–3.
Любавский М. К. Формирование… С. 76.
См.: Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990. С. 106–109.
Опись Посольского приказа 1626 г. М., 1977. С. 37.
Редкие источники по истории России. Вып. 2. С. 113.
См. о нем: Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 48.
ДДГ. № 33. С. 83.
Там же, № 47. С. 144.
Там же, № 53. С. 161.
Редкие источники по истории России. Вып. 2. С. 114.
ПСРЛ. Т. 25. С. 236, 252, 264, 270, 272, 394; АСЭИ. Т. 1, № 277. С. 198; АФЗХ. Ч. 1, № 10З, 126. С. 99, 118; Разрядная книга 1475–1605. Т. 1. Ч. 1.М., 1977. С. 86.
ПСРЛ. Т. 24. С. 194.
ДДГ. № 74. С. 276–277.
Там же, № 83. С. 330.
Такое допущение делал А. Е. Пресняков, см.: Пресняков А. Е. Образование… С. 331, прим. 1.
Помимо «центральной» части княжества, на левом берегу Оки за местными князьями (принадлежавшими к одной из ветвей тарусского дома — конинско-волконской), вероятно, сохранялись до середины XV в. владения на окском правобережье, к юго-востоку от Любутска и Алексина (см.: Шеков А. В. Верховские княжества (Краткий очерк политической истории. XIII — середина XVI в). Тула. 1993. С. 55–65).
Это не касается «мезецкой» ветви тарусского княжеского рода (пошедшей от Всеволода — брата Константина Юрьевича Оболенского): ее представители вместе со своими владениями на правобережье Угры служили в XV в. литовским великим князьям (см.: Кром М. М. Меж Русью и Литвой. С. 46–50).
ДДГ. № 52. С. 155–159. О статусе «служилых князей» см.: Назаров В. Д. Служилые князья Северо-Восточной Руси в XV в.
ДДГ. № 89. С. 362.
Вероятность сходства отношений Москвы с тарусскими и нижегородско-суздальскими князьями отметил С. А. Фетищев (Фетищев С. А. К вопросу о присоединении… С. 34–35).
По-видимому, это произошло незадолго до 1494 г., так как во время происходившего между 1496–1498 гг. земельного спора старцев Троице-Сергиева монастыря с князем Иваном Константиновичем Оболенским, в течение 24 лет незаконно владевшим монастырским селищем Зеленевым, отмечалось, что великокняжеский суд не состоялся раньше, поскольку пристав великого князя «в Оболенескъ… не въѣжжал», и старцам приходилось обращаться к самому князю Ивану (АСЭИ. Т. 1, № 607, 617а. С. 507, 518), т. е. еще недавно Оболенск сохранял права центра формально самостоятельного княжества.
См.: Кучкин В. А. Русские княжества… С. 50. Существует мнение, что карачевским князьям в начале XIV в. принадлежал подмосковный Звенигород, поскольку одна из их ветвей носила наименование «звенигородские» (Зотов Р. В. О черниговских князьях… С. 132–136; Аверьянов К. А. Московское княжество Ивана Калиты. Московские «трети». Звенигород. История вхождения в состав Московского княжества. М., 1993. С. 35–54). Это представляется маловероятным, учитывая, что между достоверно известной карачевско-козельской территорией и Звенигородом лежали владения новосильских, тарусских и рязанских князей. Скорее всего, прозвание «звенигородский» произошло от одноименного укрепленного поселения в Карачевском княжестве, позже (в XVI в.) известного как Звенигородское городище на р. Неполоди (Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1877. С. 889 — отождествление со Звенигородом принадлежит А.К. Зайцеву).
ДДГ. № 16. С. 43–44; № 17. С. 47.
Там же, № 16. С. 43.
Русская историческая библиотека. Изд. 2-е. Т. 6. Приложение. Стб. 137–138.
См.: Горский А. А. Москва и Орда. С. 125–127.
ПСРЛ. Т. 25. С. 237.
Приселков М. Д. Троицкая летопись. С. 461; ПСРЛ. Т. 15. Стб. 472.
ДДГ. № 27, 30. С. 70, 76.
Там же, № 41. С. 122. В этом документе фиксируются тянувшие тогда к Козельску волости — Серенск, Людимеск (= Людимльск, в начале XIV в. оставленный за князем Иваном), Коробки, Вырка.
Читать дальше