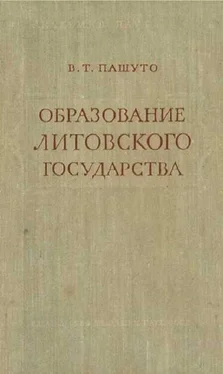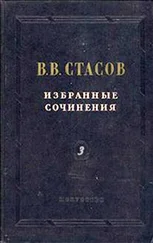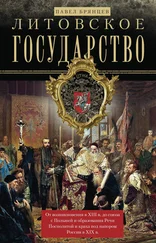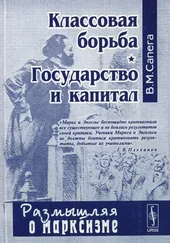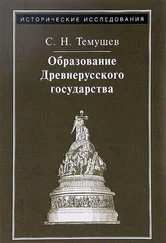Из известных мне рецензий на мою книгу по истории Галицко-Волынской Руси — В. Д. Королюка [48] См. ВИ, 1951, № 8, стр. 132–135.
, А. А. Зимина [49] См. «Советская книга», 1951, № 2, стр. 85–88.
, Я. Вашкевича [50] См. «Czasopismo prawno-historyczne», t. IV, Poznań, 1952, str. 481–487.
, Б. Влодарского [51] См. «Przegląd Historyczny», t. XLIV, zeszyt. 3, Warszawa, 1953, str. 426–438.
и Р. Каменика [52] См. «Kwartalnik Historyczny», t. LIX, Warszawa, 1952, str. 126–130.
— вопросы летописного источниковедения поставлены главным образом первыми двумя. Насколько я понял, эти рецензенты согласны с методом анализа летописей, предложенным в книге, в плане теоретическом; не вызывает у них сомнений определение территориальных границ галицкого и затем волынского летописания и его классового и политического смысла.
Сомнения возникают при анализе состава выделенных сводов: В. Д. Королюк склонен считать выделенную мною Киевскую летопись Смоленско-киевской, а А. А. Зимин приемлет ее как Киевскую; В. Д. Королюк согласен с тем, что составителями светских княжеских сводов могли быть духовные лица, близкие двору; А. А. Зимин с этим решительно не согласен и т. д. Я, разумеется, не претендую на исчерпывающее решение вопроса и буду рад другим вариантам анализа, лишь бы они не исходили из одних формально-текстологических или литературно-художественных принципов, которые, взятые сами по себе, непригодны для анализа исторических хроник [53] Пока еще трудно судить о работе А. И. Генсьорского, который рассматривает Галицко-волынскую летопись как свод и выделяет в ней редакции 1234, 1266, 1285–1286, 1289, 1292 гг. (А. I. Генсьорський) стр. 82), потому что аргументация приведена им лишь частично (особенно шатка она касательно свода 1234 г.). Но бесспорно, что эта работа содержит ряд очень интересных текстологических наблюдений. Странным образом автору остались неизвестны другие работы (Е. Перфецкого, М. Д. Приселкова и иных), посвященные той же теме, вследствие чего им высказано неосновательное утверждение, что доныне в науке изучались лишь источники, а не редакции Галицко-волынской летописи и, притом, к анализу не привлекались хроника Я. Длугоша, Воскресенская летопись и пр. (там же, стр. 68). Ср. А. В. Эмаусский, стр. 59–109.
.
Совсем недавно опубликовал свою статью о Волынской летописи И. П. Еремин. Мы с И. П. Ереминым по-разному смотрим на русские летописи. Для И. П. Еремина Ипатьевская летопись — это сборник литературных сочинений. Первая часть (Повесть временных лет) «не мудрствуя лукаво», написана одним автором [54] И. П. Еремин-1, стр. 8–9, 38.
, Киевская летопись XII в. — другими авторами, которые также не обнаружили «признаков творческого переосмысления описываемых событий» [55] И. П. Еремин-2, стр. 81.
; летописец Даниила Галицкого — третьим [56] И. П. Еремин-3, стр. 109–110.
и, наконец, Волынская летопись — четвертым [57] Там же, стр. 102, 112, 114, 116.
. В свое время я имел возможность высказаться относительно концепции И. П. Еремина в целом [58] См. ВИ, 1948, № 6, стр. 105–106; 1950, № 3, стр. 118–119.
и потому коснусь ее здесь лишь постольку, поскольку исследователь распространил ее на новый участок летописи. Мой взгляд на Ипатьевскую летопись «существенно отличается» от концепции М. С. Грушевского не «в подробностях» (как простодушно пишет И. П. Еремин [59] И. П. Еремин-3, стр. 103.
), а в главном — в понимании идейной, классовой природы летописи и ее состава как свода (а не сборника), идущего от галицко-волынского введения к Повести временных лет до конца летописи.
Меня вполне удовлетворяет, что И. П. Еремин счел возможным принять некоторые из сделанных мною выводов. У нас нет расхождений относительно оценки основного идейного смысла владимирско-волынского летописания в целом [60] И. П. Еремин-3, стр. 106, 110–111.
; полностью совпадают и наши взгляды на освещение этой летописью таких деятелей, как Лев Данилович [61] Там же, стр. 110; В. Т. Пашуто-2, стр. 110, 119, 123.
, Шварн Данилович [62] И. П. Еремин-3, стр. 111; В. Т. Пашуто-2, стр. 102.
, Юрий Львович [63] И. П. Еремин-3, стр. 111; В. Т. Пашуто-2, стр. 124–125.
, Василько Романович [64] И. П. Еремин-3, стр. 111; В. Т. Пашуто-2, стр. 108, 116.
, Владимир Василькович [65] И. П. Еремин-3, стр. 112–113; В. Т. Пашуто-2, стр. 123, 125–126.
, т. е. всех главных героев летописи; И. П. Еремин не оспаривает моего мнения о роли церковного, агиографического элемента в летописи, а, напротив, подкрепляет его и приходит к сходному выводу, что автором летописи Владимира Васильковича был «видимо, местный монах или священник» [66] И. П. Еремин-3, стр. 116.
; наконец, не сомневается И. П. Еремин и в том, что волынский летописец унаследовал традиции киевской литературной школы [67] И. П. Еремин-3, стр. 112–114; В. Т. Пашуто-2, стр. 127.
.
Читать дальше