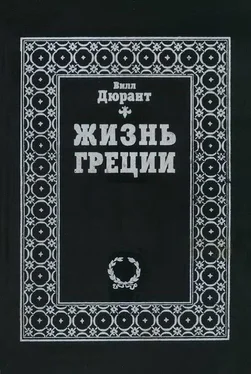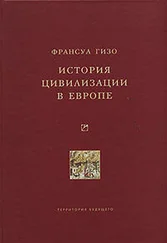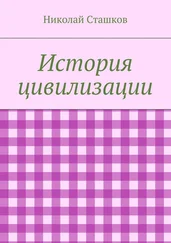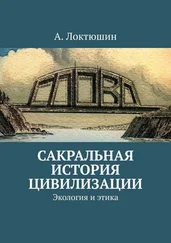Из сорока книг, на которые Полибий разделил свою «Историю», время сохранило пять, а эпитоматоры спасли значительные фрагменты остального. Как жаль, что исполнению этого грандиозного замысла вредит беспомощность языка, раздражительная критика других историков, почти полное сосредоточение на политике и войне, нелепое дробление повествования на Олимпиады, из-за чего история всех средиземноморских государств излагается по четырехлетиям, что ведет к раздражающим отступлениям и обескураживающей сбивчивости. Порой, как в рассказе о нашествии Ганнибала, Полибий возвышается до драмы и красноречия, но его неприязнь к цветистой риторике, популярной среди его непосредственных предшественников, столь сильна, что скуку он почитает достоинством [2281]. «Никто и никогда, — говорил один античный критик, — не читал его от начала и до конца» [2282]. Мир почти забыл о нем; но историки долго еще будут его изучать, потому что Полибий был одним из величайших теоретиков и практиков историографии, потому что он осмелился на широкий охват событий и написание «всемирной истории», и — прежде всего — потому, что он понимал: факты не имеют ни малейшей ценности, если им не сопутствует истолкование, а прошлое лишь тогда чего-либо стоит, когда оно хранит наши корни и служит нашему просвещению.
Глава 27
Искусство периода рассеяния
Упадок греческой цивилизации позднее всего проявился в сфере искусства. В этой области эллинистическая эпоха выдерживает сравнение — не только по продуктивности, но и по самобытности — с любым другим периодом в истории. Вне сомнений, не претерпело упадка прикладное искусство. Опытные мастера по дереву, слоновой кости, серебру и золоту были рассеяны по всему расширившемуся греческому миру. Гравировка гемм и чеканка монет достигли высшего совершенства; далеко на востоке, в Бактрии, эллинизированные цари превращали свои деньги в произведения искусства, а о декадрахме Гиерона II на западе можно утверждать, что это — прекраснейшая монета в анналах нумизматики. Александрия прославилась своими кузнецами по золоту и серебру, чье мастерство не уступало безупречному слогу александрийских поэтов, прелестными камеями — драгоценными камнями или раковинами, покрытыми расцвеченным рельефом, голубым и зеленым фаянсом, искусно глазурованной керамикой, узорчатым и многоцветным стеклом. Портлендская ваза, которая, по всей видимости, сделана в Александрии, показывает это искусство с лучшей его стороны: изящные фигуры вырезаны на слое молочно-белого стекла, наложенного на корпус из голубого стекла; это, так сказать, шедевр античного Джосайи Уэджвуда [2283].
Музыка по-прежнему была популярна во всех слоях населения. Гаммы и вкусы менялись в сторону утонченности и новизны [2284]; гармонии были дополнены мимолетными диссонансами, возрастала сложность инструментов и композиций [2285]. Около 240 года в Александрии старинные «флейты Пана» были укрупнены в орган из бронзовых трубок, а примерно в 175 году Ктесибий его усовершенствовал, создав орган, приводимый в действие водой и воздухом и позволяющий музыканту повелевать огромными звуковыми волнами. Нам ничего больше не известно о его конструкции, но мы увидим, что в римский период из него стремительно разовьется орган христианского и Нового времени [2286]. Отдельные инструменты собирались в оркестры, и полусимфонические концерты чисто инструментальной музыки, иногда в пяти частях, давались в театрах Сиракуз, Афин и Александрии [2287]. Профессиональные виртуозы приобрели громкую славу и достигли социального положения, соизмеримого с их высокими гонорарами. Около 318 года ученик Аристотеля Аристоксен Тарентский написал небольшой трактат «Гармоника», ставший классическим античным текстом по теории музыки. Аристоксен был человеком весьма серьезным и, подобно большинству философов, не получал удовольствия от музыки своих современников. Афиней вкладывает в его уста слова, которые будут на слуху у многих поколений: «…и поскольку театры окончательно одичали, и поскольку музыка совершенно уничтожена и опошлена — мы, ничтожная горсточка, оставшись наедине с собой, будем вспоминать, чем была музыка прежде» [2288].
Нам трудно судить об архитектуре эллинистической эпохи, потому что неразборчивая враждебность времени стерла ее с лица земли. И все же из книг и сохранившихся развалин нам известно, что греческое строительное искусство господствовало в этот период на всем пространстве от Бакгрии до Испании. Взаимное влияние Греции и Востока привело к смешению стилей: колоннада и архитрав вторглись во внутреннюю Азию, тогда как арка, свод и купол проникли на Запад; даже такой древний эллинский центр, как Делос, устанавливал египетские и персидские капители. Эпохе, которая любила утонченность и орнамент, дорический ордер казался чересчур суровым и напряженным; город за городом сдавал он свои позиции, тогда как нарядный коринфский стиль достиг своего высочайшего совершенства. Секуляризация искусства шла нога в ногу с секуляризацией государства, права, морали, литературы и философии; стой, портики, рыночные площади, суды, залы собраний, библиотеки, театры, гимнасии и бани начали вытеснять храмы, а царские и частные дворцы обеспечили греческих архитекторов и декораторов новым рынком сбыта. Интерьеры украшались картинами, статуями и настенными рельефами. Наиболее пышные особняки были окружены частными садами. В столицах устраивались царские парки, сады, озера и павильоны, обычно открытые для общего пользования. Градостроительство развивалось как искусство, родственное архитектуре: улицы прокладывались по прямоугольной Гипподамовой схеме с проспектами шириной до десяти метров, чтобы в праздничные дни по ним могли разъезжать лошади и колесницы. Смирна гордилась мощеными проспектами [2289], однако следует думать, что эллинистические улицы представляли собой утоптанную землю, и пешеходы как нельзя лучше знали, что такое слякоть.
Читать дальше