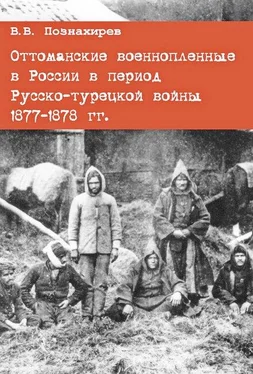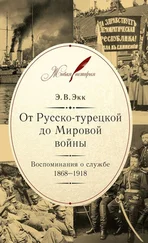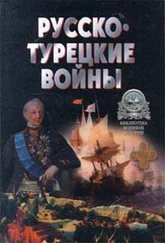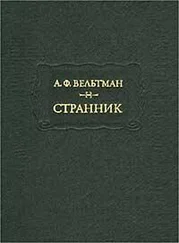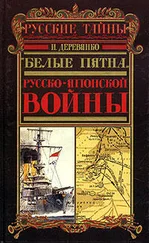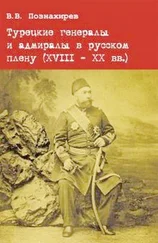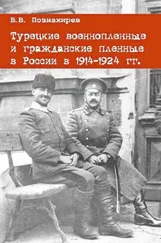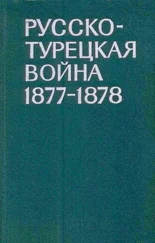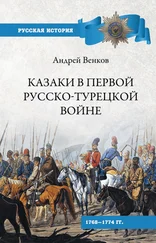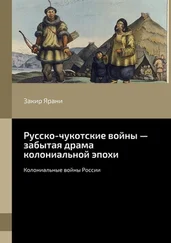Однако, как бы то ни было, новое «положение о военнопленных восточной 1877 года войны» от 2 июля 1877 г. (приложение 4) было разработано специально образованной для этой цели межведомственной комиссией и принято в предельно короткий срок. Причем, как видно из данных Таблицы 2, срок этот можно считать рекордным для дореволюционной отечественной истории, особенно если учесть, что «Положение» 1877 г., с одной стороны, принципиально отличалось от обоих предыдущих, а с другой, — стало фундаментальной основой для выработки обоих последующих.
Таблица 2
Сроки разработки и принятия в России базового нормативного правового акта о военнопленных противника (в войнах XIX — начала XX в.) [28] Даты принятия Положений о пленных указаны по изданиям: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. второе. Т. IV. № 2977, Т. XXIX. № 28038, Т. LII. № 57530; Собр. третье. Т. XXIV. № 24523; СУиРП. 1914. № 281. Ст. 2568.
| Наименование конфликта |
Дата вступления России в войну |
Дата принятия Положения о пленных |
Разница между датами вступления в войну и принятия Положения о пленных (в сутках) |
| Русско-турецкая война 1828–1829 гг. |
14.04.1828 г. |
09.07.1829 г. |
451 |
| Крымская война 1853–1856 гг. |
04.10.1853 г. |
16.03.1854 г. |
163 |
| Русско-турецкая война 1877–1878 гг. |
12.04.1877 г. |
02.07.1877 г. |
81 |
| Русско-японская война 1904–1905 гг. |
27.01.1904 г. |
13.05.1904 г. |
106 |
| Первая мировая война 1914–1918 гг. |
19.07.1914 г. |
07.10.1914 г. |
80 |
Нелишним здесь будет учесть и то обстоятельство, что разработку документа осложняла борьба в указанной комиссии двух противоположных концепций. Одной из них придерживались представители военного министерства, МВД, Минфина и МПС. Опираясь на отечественный опыт первой половины XIX в. и руководствуясь принципом: «военным не следует поручать то, что в состоянии делать и гражданские», названные лица полагали, что по прибытию пленных в места интернирования, они подлежат передаче от военных властей органам внутренних дел, а управление ими должно осуществляться, по сути своей, на основе того же «положения» 1854 г., лишь приведенного в соответствие с реалиями сегодняшнего дня [29] РГА ВМФ. Ф. 283. Оп. 3. Д. 1229. Л. 21–22; РГИА. Ф. 1286. Оп. 38. Д. 152. Л. 8, 12–13, 30–39.
.
Другую точку зрения представлял МИД. Основывалась она, преимущественно, на нормах Брюссельской декларации 1874 г. и опыте недавних вооруженных конфликтов в Европе, в первую очередь, — Франко-прусской войны 1870–1871 гг. исходя из этого и руководствуясь противоположным принципом: «гражданским следует поручить лишь то, что военные делать не в состоянии», внешнеполитическое ведомство предлагало возложить управление пленными, на весь период их пребывания в России, исключительно на военное министерство, которому МВД должно было лишь содействовать [30] РГИА. Ф. 1286. Оп. 38. Д. 152. Л. 46–60.
.
В конечном итоге, комитет министров поддержал позицию именно МИД, благодаря чему Россия обрела не просто принципиально новый, но и, вероятно, один из наиболее прогрессивных и совершенных для своего времени базовых документов о военнопленных. Если говорить конкретнее, то в «положении» 1877 г. отечественный законодатель впервые:
— изъял пленных из подчинения должностным лицам МВД (губернаторам, полицмейстерам, уездным исправникам и пр.) и полностью передал их в распоряжение органов военного министерства (§ 30);
— установил, что «военнопленные подлежат действию российских военных постановлений и уставов и подсудны военным судам» (§ 59);
— стремясь достичь наиболее полного, достоверного и актуального учета пленников, ограничил число Общих тыловых сборных пунктов военнопленных лишь двумя (Кишинев и Ростов-на-Дону), территориально входящими к тому же в состав одного военного округа — Одесского (§ 2);
— признал нецелесообразным заранее определять исчерпывающий перечень регионов и населенных пунктов, предназначенных для расквартирования пленных, благодаря чему военное ведомство могло на протяжении всей войны решать данный вопрос самостоятельно, без согласования с МВД (министру внутренних дел было оставлено лишь право выбора мест интернирования турецких генералов);
— унифицировал содержание различных категорий пленных османов, практически полностью отказавшись от их многоплановой дифференциации на христиан и магометан; «природных турецких подданных» и иностранцев, принявших службу Оттоманской империи; перебежчиков и лиц, плененных «с оружием в руках» и пр.;
Читать дальше