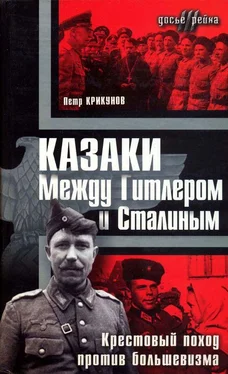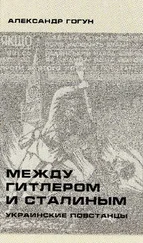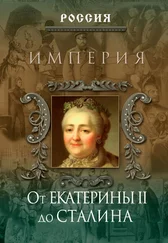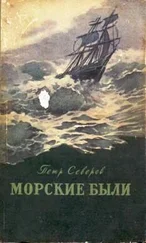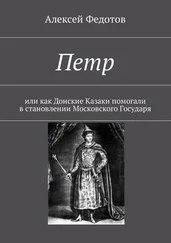Даже генерал П.Н. Краснов, казалось бы, совсем утративший надежду на счастливое разрешение казачьих судеб, попав под влияние «победных» газетных репортажей о налаживании мирной жизни на оккупированных казачьих землях, писал 20 июля 1942 года атаману Е.И. Балабину: «…нужно уже думать о крупной переброске знающих и любящих Дон и Россию людей туда для службы с немцами и под немцами, а людей этих-то и нет». Также в эти дни его чрезвычайно заботила судьба казачьего эмигрантского музея, который, по его мнению, должен был как можно скорее «возвратиться на свое место в Новочеркасск» [140] ГАРФ. Ф. 5761. ОП. 1. Д. 17. Л. 5.
.
Однако время шло, на Дону, Кубани и Тереке понемногу начало налаживаться какое-то подобие «мирной» жизни, прошли выборы станичных и кое-где окружных атаманов, начали активно формироваться казачьи части из населения оккупированных казачьих территорий, а отношение немецкого руководства к казачьей эмиграции оставалось по-прежнему презрительно холодным. Немцы предпочитали сотрудничать с «подсоветскими» казачьими лидерами, разбивая тем самым все мечты эмигрантских атаманов о том, что именно им будет поручено заново строить казачью жизнь на родине. «Пока так же, как и повсюду, — писал П.Н. Краснов Е.И. Балабину 7 августа 1942 года, — немцы в занятых областях России стараются обходиться местными силами без эмиграции, питая к последней, и может быть основательно, недоверие. Эмиграция раскололась на толки и ориентации, а немцам, конечно, нужна только одна ориентация — немецкая» [141] ГАРФ. Ф. 5761. ОП. 1. Д. 17. Л. 10–10 (об).
. 12 декабря 1942 года генерал еще раз грустно подтвердил полное отсутствие у эмигрантов каких- либо перспектив. «В каждой станице для борьбы с большевиками, — сообщал он Е.И. Балабину, — организованы отдельные казачьи сотни, по всему фронту казаки военнопленные и казаки, добровольно перешедшие к немцам, организованы в полки и сотни, прекрасно вооружены и работают с немцами, вызывая их восхищение и удивление. При таких условиях естественно, что казакам эмигрантам, ничем, кроме сплетен, жалоб и кляуз, не проявившим себя, места там не будет… Эмиграция теперь или должна идти туда, или примириться с тем, что она так и останется эмиграцией или, в лучшем случае, приедет „домой“, когда ей разрешат, чтобы тихо и мирно жить на „пенсии“… Вы понимаете, что при таких обстоятельствах мне в 73 года просто смешно было бы куда-то соваться, кого-то возглавлять и путаться в дела, которые хорошо ли, худо ли, но уже идут» [142] ГАРФ. Ф. 5761. ОП. 1. Д. 17. Л. 17.
.
Глава 3
ГУКВ: казачье правительство рухнувших надежд
С 1943 года отношение немецкого руководства к казачьей эмиграции начало постепенно меняться. Связано это было с тяжелейшим положением на Восточном фронте, Сталинградской катастрофой и последовавшим отступлением немецкой армии с территории Северного Кавказа. Перед германским руководством встала проблема изыскания дополнительных резервов для продолжения борьбы. Немаловажная роль в этих планах отводилась населению оккупированных территорий и советским гражданам, оказавшимся в Германии в качестве военнопленных и «восточных рабочих» — все это требовало изменения традиционных методов нацистской политики по отношению к народам СССР. Чтобы заставить всех этих людей верой и правдой служить нацистской Германии, требовалось обозначить ощутимые политические цели, заинтересовать, дать веру в то, что они воюют ради своего будущего и будущего своих детей, а не ради сохранения жизни и лишней миски супа.
В то время все восточные народы, представители которых сражались в составе германской армии, уже имели свои национальные комитеты, претендовавшие в будущем на роль правительств «независимых государств», — ничего подобного не было только у казаков. Однако в декабре 1942 года при Министерстве по делам оккупированных восточных территорий такой комитет, получивший название «Казачье управление Дона, Кубани и Терека», во главе с Н.А. Гимпелем был создан. Для того чтобы сразу зарекомендовать себя серьезной, претендующей на «объединение всего казачества» организацией, Гимпель вступил в тесный контакт с генералом П.Н. Красновым. Зная о популярности старого атамана в казачьих кругах, немцы прочили его на роль идейного вдохновителя всего казачества. Уже 25 января 1943 года генерал подписал обращение, в котором призвал все казачество встать на борьбу с большевистским режимом. В обращении отмечались особые казачьи черты, казачья самобытность, право казаков на самостоятельное государственное существование, но, что любопытно, не было ни слова о России. Видимо, к этому времени Краснов окончательно понял, что идея о казачестве в единой неделимой России осталась в прошлом. Как позже признавался сам П.Н. Краснов, именно с этого момента он стал только казаком, стал служить только казачьему делу, поставив «крест на своей предыдущей жизни и деятельности» [143] Никонов В.О. О казачьих делах // Часовой. 1950. № 10. С. 17–18.
.
Читать дальше