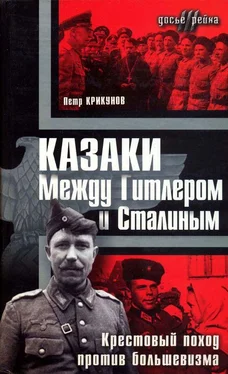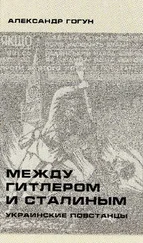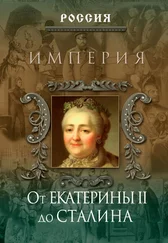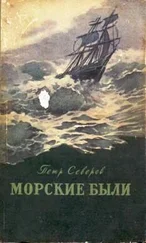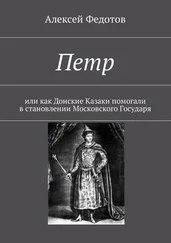В реальности никакого донского казачьего полка в сентябре 1941 года не существовало и существовать не могло, немцы просто не решились бы в то время сформировать такую крупную часть из числа советских граждан. Есть и другие вопросы: как немцы могли разрешить сдавшимся в плен красноармейцам меньше чем через месяц взять в руки оружие? А что, если все это было спланированной акцией советской разведки? Да и странно, что все как один перешедшие бойцы вдруг оказались казаками-антисоветчиками, хотя сам полк не был казачьим. Практически все источники и документы свидетельствуют лишь о том, что Кононов сформировал не полк, а эскадрон, в который вошли лишь 26 его бывших подчиненных [365] На казачьем посту. 1944. № 38. С. 12; Решин Л. «Казаки» со свастикой. Документы из архивов КГБ // Родина. 1993. № 2. С. 73.
. Что же касается решения Кононова о сдаче в плен (спланированное или спонтанное) и количества бойцов Красной армии, перешедших на сторону немцев, то тут что-либо точно, не боясь ошибиться, утверждать нельзя. Действительно, во многих источниках (например, в дневнике Кононова, частично опубликованном тем же Черкасовым, или в казачьей прессе времен Второй мировой войны) [366] В том же журнале «На казачьем посту» говорится то о том, что вместе с Кононовым перешел целый полк, то о том, что лишь несколько десятков человек.
указывается, что на сторону немцев перешел весь полк, но каких-то конкретных данных на этот счет не приводится. Вполне возможно, что вместе с Кононовым сдались несколько десятков человек, а возможно, что и большая часть потрепанного к тому времени в боях подразделения, но его дальнейшая судьба неизвестна. Не совсем укладывается в версию о сдаче всего полка и тот факт, что полковое знамя ныне находится в бывшем «Музее Вооруженных сил СССР». Согласитесь, если бы весь личный состав перешел на сторону немцев, знамя вряд ли попало бы в этот музей.
Вот что по поводу сдачи «батьки» (так Кононова называли подчиненные) в плен написано в казачьем официозе — журнале «На казачьем посту»: «22 августа полк (опять упоминается полк, но куда он делся потом, все-таки непонятно. — П.К. ) перешел на сторону немцев. После сдачи Кононов был направлен в штаб фронта в Смоленск, потом в Борисов в нечто вроде санатория для офицеров. В Борисове Кононов пробыл около месяца. Написал рапорт о желании принять участие в борьбе с большевиками. В октябре 1941 майора Кононова вызвали телеграммой в Могилев. С этого момента началась организация 102-го казачьего эскадрона» [367] На казачьем посту. 1944. № 37–38. С. 11–12.
.
Подробнее о формировании первой официальной казачьей части и ее структуре можно узнать из послевоенных показаний на допросах НКВД графа Ганса Риттберга, который исполнял при Кононове функции представителя немецкого командования. Граф утверждал: «Кононовым руководил я, а Кононов командовал эскадроном» [368] Решин Л . «Казаки» со свастикой. Документы из архивов КГБ //Родина. 1993. № 2. С. 73.
. «28 октября 1941 года по приказу генерала Шенкендорфа — командующего тыловыми частями группы армий „Центр“ — я явился к немцам в штаб, где меня познакомили с бывшим майором Красной Армии Кононовым… Шенкендорф объявил Кононову, что тот назначается командиром казачьего эскадрона, который следует сформировать в городе Могилеве из советских военнопленных. Шенкендорф указал также, что эскадрон предназначен для проведения оперативных действий против партизан и выполнения карательных функций против населения, поддерживающего партизан» [369] Там же.
. Помимо функций посредника между Кононовым и немецким командованием, Риттберг исполнял роль своеобразного надсмотрщика над первым казачьим командиром: «Майор Кононов, — рассказал он в 1943 году в интервью корреспонденту журнала „На казачьем посту“, — отправился в сад за яблоками, а я подумал, что он решил убегать. Потом он возвратился… с яблоками» [370] На казачьем посту. 1943. № 14. С. 14.
.
Первый эскадрон был сформирован из военнопленных, содержавшихся в лагерях Могилева, Гомеля, Борисова, Невеля, Лепеля, Витебска, Смоленска и Орши. С военнопленными обычно разговаривал Кононов. Для привлечения людей он «вначале сообщал об успехах германских войск, причем успехи значительно преувеличивались, затем призывал желающих вступить в эскадрон, обещая питание и обмундирование по нормам немецкой армии, а по окончании войны, от имени германского правительства, обещал земельные наделы и денежную субсидию» [371] Решин Л. «Казаки» со свастикой. Документы из архивов КГБ // Родина. 1993. № 2. С. 73.
. Естественно, при таких заманчивых обещаниях, да еще и в страшных условиях немецких лагерей среди военнопленных нашлось немало малодушных «добровольцев», которые и составили основу первых казачьих эскадронов. После объезда всех этих лагерей к 9 ноября 1941 года из отобранных 200 добровольцев был сформирован 102-й казачий эскадрон [372] На казачьем посту. 1944. № 38. С. 12; Решин Л. Там же; Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. С. 63.
. Прибывающие из лагерей в Могилев казаки представляли собой любопытное зрелище: «В ноябре в Могилеве произошло знакомство первых казаков-бойцов с первым казаком-командиром, майором Кононовым. На следующий день жители Могилева с удивлением смотрели на оборванное бывшее красное воинство, весело шагавшее с песнями в казарму… В конце ноября 1941 года сотня получила коней, если можно было так в то время назвать изнуренных и измученных животных, с выдающимися костями и ребрами. Не обошлось, конечно, без шуток и острот при виде таких „боевых казачьих друзей“… В декабре произошла большая перемена. Казаки просто друг друга не узнавали. Одетые в немецкую форму, все с оживлением рассматривали чистое белье, богатое суконное обмундирование. Многие казаки никогда в жизни не носили подтяжек и приходили в детское смущение, не зная, куда их применить, к немалому веселью оберлейтенанта Риттберга. В первое же воскресенье жители города Могилева вторично с удивлением глядели на четко идущих немецких солдат, поющих лихие казачьи песни» [373] Казачий вестник. 1943. № 4 (35). 15 февраля. С. 2.
.
Читать дальше