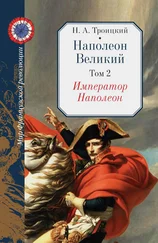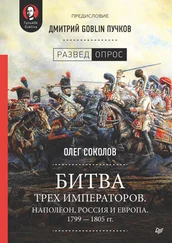Е. В. Тарле назвал эту клятву над гробом Фридриха Великого «нелепейшей сценой» и — не без основания: «Нелепость ее заключалась в том, что в свое время Россия воевала именно с этим Фридрихом семь лет, и то Фридрих бил русских, то русские жестоко били Фридриха, успели занять Берлин и чуть не довели короля до самоубийства» [66] Тарле Е. В. Цит. соч. С. 185–186.
.
Увы, Фридрих Вильгельм III так и не успел принять участие в военной кампании 1805 г., не угнался за своими более резвыми партнерами по третьей коалиции, монархами России и Австрии. Он соберется с силами и выступит против Наполеона уже после того, как австрийские и русские войска будут разгромлены при Аустерлице, — выступит с решимостью отомстить «узурпатору» за своих собратьев по коалиции, но, как мы увидим, подвергнется еще более страшному разгрому. Прочие же коалиционеры (Турция, Швеция, Дания, Неаполь, Сардиния) ограничатся пока дипломатическим и финансовым содействием. На войну с Наполеоном в 1805 г. отважились только Англия, Австрия и Россия.
Австрийский император Франц I к тому времени, конечно, не мог забыть, как Наполеон громил его армии в 1796–1797 и 1800 г., боялся «узурпатора» и к тому же еще был удручен личной утратой: потерял вторую из своих четырех жен, мать его 13 детей. Поэтому он сам и вся австрийская военщина настраивались на очередную кампанию против Наполеона опасливо, хотя и с надеждами на приток финансовых ресурсов из Англии и людских — из России. Совершенно иным был тогда настрой в правительственных и военных кругах России.
Александр I при всех его поверхностно — либеральных (лагарповских [67] Так выражались современники Александра и последующие историки, говоря о влиянии на него (в то время, когда он был еще наследником престола) со стороны его республикански настроенного педагога — наставника, швейцарского просветителя Фредерика Цезаря Лагарпа (1754–1838).
) увлечениях оказался самым пылким среди коалиционеров рыцарем феодально — династического принципа легитимизма. Он еще летом 1803 г. в письме к Ф. Ц. Лагарпу объявил Наполеона «исчадием» революции и «одним из величайших тиранов, которых порождала история» [68] Письма императора Александра I и других особ царственного дома к Ф. Ц. Лагарпу. СПб., 1832. С. 36–37.
. Тогда же царь предостерегал своего посла в Париже А. И. Моркова от недооценки «всех бичей революции, которые они (французы. — Н. Т.) приносят с собою» [69] Сб — к Русского исторического об — ва. СПб., 1890. Т. 70. С. 201.
, а с весны 1804 г., после расстрела герцога Энгиенского, все более утверждался в мысли, которую граф Ф. В. Ростопчин (будущий, в 1812–1814 гг., генерал-губернатор Москвы) сформулировал так: «Революция — пожар, французы-головешки, а Бонапарт — кочерга». Кстати, в память о герцоге Энгиенском Александр I распорядился установить в католическом соборе Петербурга кенотаф [70] Надгробие без тела умершего.
с надписью «Quem devoravit belua Corsica!» [71] «Тому, кого пожрал корсиканский хищник» ( лат.). См.: Труайя А. Александр I, или Северный Сфинкс. М., 1997. С. 85.
.
Именно Александр больше, чем кто-либо, заботился о французских контрреволюционерах. Их патриарха, будущего короля Франции Людовика XVIII, которого Павел I в 1801 г. изгнал из России (где тот жил с 1797 г., получая по 200 тыс. руб. ежегодной пенсии), Александр уже на следующий год вновь приютил у себя в Митаве (ныне г. Елгава в Латвии) и содержал его с придворным штатом из 80 человек за русский счет [72] См.: ВПР. Сер. 1. Т. 1. С. 220–221; Людовик XVIII в России // Русский архив. 1877. № 9. С. 58, 60.
. Никогда раньше не подвизались на российской службе столько «зубров» бежавшей из Франции роялистской знати, как при Александре I: герцоги В. Ф. Брольо (сын и внук маршалов Франции), А. Э. Ришелье (правнучатый племянник знаменитого кардинала), М. Лаваль де Монморанси, А. Ж. Полиньяк, маркизы И. И. Траверсе и Ж. д’Отишан, графы Э. д’Антрег, М. Г. Шуазель — Гуфье, К. О. Ламберт, А. Ф. Ланжерон, Л. П. Рошешуар, Э. Ф. Сен — При и десятки других, менее крупных. К ним надо приплюсовать и сонмище титулованных старорежимных кондотьеров из других стран, как то: герцоги Брауншвейгский, Вюртембергский, Месленбургский, Ольденбургский, маркиз Ф. О. Паулуччи, графы Г. М. Армфельд, Ж. де Местр, А. Ф. Мишо де Боретур, К. О. Поццо ди Борго, бароны К. Л. Фуль, Г. Ф. Штейн, Ф. Ф. Винценгероде, Л. Ю. Вольцоген и многие другие. Даже адъютантом у казачьего атамана М. И. Платова служил принц Гессенский. Рядовым же от роялистской эмиграции в России не было и числа.
Читать дальше
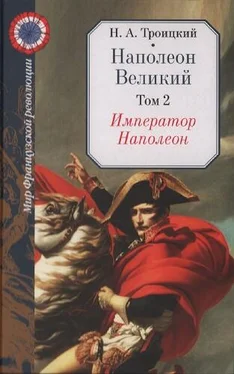
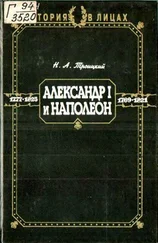
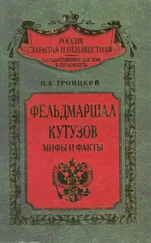
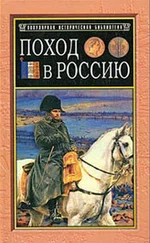

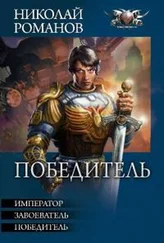
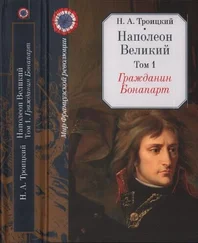
![Николай Троицкий - Идёт человек… [Новеллы]](/books/405130/nikolaj-troickij-idet-chelovek-novelly-thumb.webp)
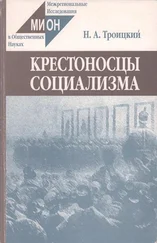
![Николай Троицкий - 1812. Великий год России [Новый взгляд на Отечественную войну 1812 года]](/books/429092/nikolaj-troickij-1812-velikij-god-rossii-novyj-v-thumb.webp)