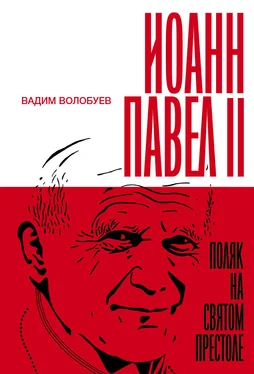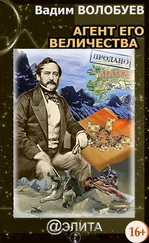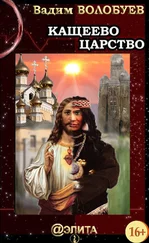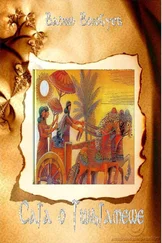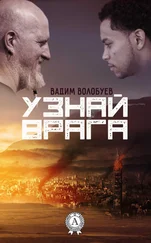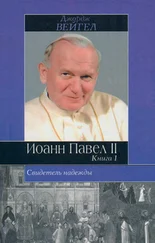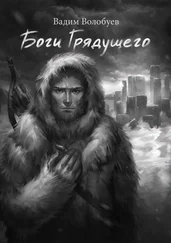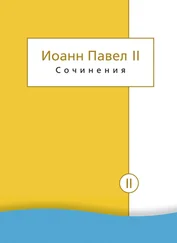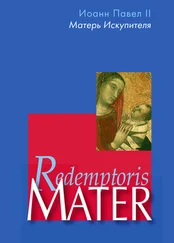Митинговали не только учащиеся вузов. Согласно милицейским сводкам, среди арестованных оказалось куда больше рабочих, чем студентов, но все схваченные, что характерно, были моложе тридцати лет. В сущности, это был бунт молодежи против косной системы.
На волнения власть ответила новым витком антисионистской пропаганды. Газеты соперничали друг с другом в поиске «провокаторов» и «поджигателей», неизменно указывая на «политических банкротов» из прежней элиты, которые действуют якобы по указке сионистов и немецких реваншистов. Особенно усердствовала паксовская пресса, печатавшая материалы откровенно антисемитского характера. Студенческих заводил называли «банановой молодежью», СМИ публиковали фамилии отпрысков высокопоставленных родителей, замеченных в акциях протеста. Лишь к концу мая, когда волнения уже давно утихли, Гомулка начал сворачивать кампанию, опасаясь, что она выйдет из-под контроля. Сотни людей к тому времени сидели в ожидании суда, тысячи вынуждены были эмигрировать.
Всего из страны без права возврата в 1968–1969 годах уехало более 15 000 граждан, среди них несколько сотен ученых, около 200 сотрудников прессы и издательств, 91 артист, 26 кинематографистов и более 300 врачей. Была проведена большая чистка в руководящих органах. Уже к сентябрю 1968 года с ответственных постов в Варшаве сняли 774 человека, в том числе 5 министров, 22 заместителя министра, 133 директора и заместителя директора отдела. Не были переизбраны в новый состав 82 члена руководящих органов на V съезде партии, состоявшемся в ноябре 1968 года [407]. Таким образом, антисионистская кампания как средство обновления партийных кадров принесла свои плоды, хотя далеко не удовлетворила ее зачинщиков. Мочар получил всего лишь пост заместителя члена Политбюро, а освободившееся кресло министра внутренних дел занял человек, никакого отношения к «партизанам» не имевший. Гомулка явно переменил отношение к товарищу по подпольной борьбе.
* * *
Для Войтылы этот бурный период начался со страстей вокруг другого театра, куда более близкого его сердцу, – Театру рапсодов. Еще 22 августа 1966 года, в разгар празднеств в честь тысячелетия крещения Польши, он отслужил в кафедральном соборе на Вавеле мессу, отметив 25-летие театра, а уже в мае 1967 года вышло постановление о его скором закрытии. Основание? Клерикализм, саботаж мероприятий по празднованию юбилея Польского государства и нелояльность к строю народной демократии. Для Войтылы, только что получившего известие о назначении его кардиналом, это был очередной холодный душ – тем более неприятный, что поводом к закрытию театра стала как раз его месса. Девятого июня, незадолго до выезда в Рим, он написал письмо старому знакомому Люциану Мотыке, который в тот момент занимал пост министра культуры и искусств [408]. Заступничество архиепископа не помогло (скорее даже повредило). Театр закрыли, Котлярчик вернулся к педагогике – устроился преподавать риторику и фонетику в две краковские семинарии. В феврале 1978 года он скончался, не дожив нескольких месяцев до избрания своего приятеля римским папой. Панихиду по нему отслужил краковский архиепископ.
С тяжелым сердцем отправлялся Войтыла в 1967 году в Ватикан. Для него это был новый этап, а для товарища его молодости – крушение дела жизни. Наверняка, уезжая, он лелеял надежду, что власти передумают. Тщетно! В сентябре театр был распущен окончательно.
Поездка в Рим, пусть недолгая, характерна тем, что в ней Войтылу сопровождал уже сложившийся круг приближенных, с которым он впредь так и будет идти по жизни. Самой важной фигурой в этом окружении был его секретарь Станислав Дзивиш. В Риме на папской аудиенции Войтыла пересекся с Мечиславом Малиньским, собратом еще по «Живому розарию». Тот как раз заканчивал обучение в Ангеликуме. А еще новоявленный кардинал встретился там с Юзефом Гожеляным – тем самым ксендзом, который получил приход в Нове Хуте.
При распределении титулярных храмов между новыми кардиналами Войтыле досталась церковь святого Кесария на Палатине. Названная в честь африканского мученика времен раннего христианства, она была поставлена самим императором Валентинианом I, который перенес в Рим из Террачины мощи этого святого, после того как дочь римского властелина исцелилась на могиле подвижника. Войтылу ввели в состав двух конгрегаций: по делам духовенства и по делам восточных церквей (а в 1970 году – еще и в Конгрегацию по делам богослужения).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу