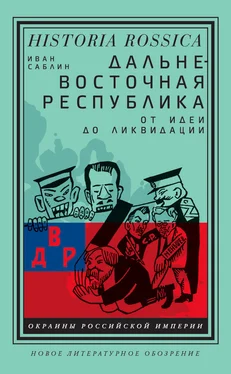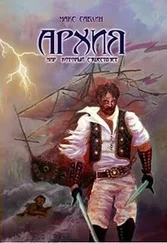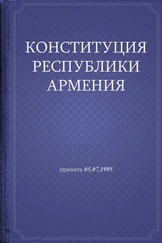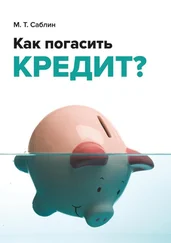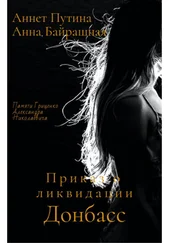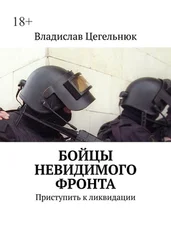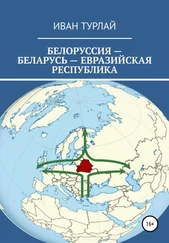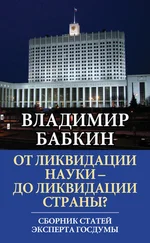Депутаты-дальневосточники выступали и против других инициатив, увеличивавших присутствие государства в регионе, в частности против создания в 1909 году Камчатской и Сахалинской областей. Чиликин сравнивал нового камчатского губернатора с дальневосточным наместником, который отнюдь не укрепил позиции России в Тихоокеанском регионе. Обсуждая принятую в итоге инициативу по увеличению численности полиции, Чиликин подверг критике использование народных денег для оплаты «политики по усмирению страны» «военно-полицейскими властями», осудил тяжелые условия жизни ссыльных (полицейское насилие, широкое распространение заболеваний и совместное содержание политических и уголовных преступников) и высказал протест против параллельного существования судебного и административного преследования, возложив ответственность за чрезвычайные репрессивные меры на думское большинство [277] Государственная дума, третий созыв, первая сессия. Стенографические отчеты, часть 3: заседания 61–98, с 7 мая по 28 июня 1908 г. СПб.: Гос. тип., 1908. С. 4070–4072; Государственная дума, третий созыв, вторая сессия. Стенографические отчеты, часть 1. С. 1752.
.
Кроме того, дальневосточные депутаты критиковали чрезмерное пристрастие к военному управлению, а также военное положение и правила особой охраны, введенные по всей империи в годы Русско-японской войны и Первой русской революции [278] Smith S. A. Russia in Revolution: An Empire in Crisis. P. 18.
, а в регионе сохранившиеся на долгие годы. Русанов указывал, что чиновники используют ксенофобский страх «желтого призрака» и оборонческий дискурс, чтобы подавлять прессу и деятельность местных активистов, и призывал к отмене военного положения. Он резко критиковал владивостокские военные власти, возлагая на них ответственность за плохие санитарные условия в городе и невнимание к культурным нуждам Дальнего Востока, настаивая, что «дело Дальнего Востока не заключается в одной внешней обороне» [279] Государственная дума, четвертый созыв, первая сессия. Стенографические отчеты, часть 3. С. 1808–1809; Государственная дума, четвертый созыв, вторая сессия. Стенографические отчеты, часть 3. С. 1651–1656.
:
Затем, военный министр [Владимир Александрович Сухомлинов] указал на то, что, в сущности говоря, Дальний Восток есть «военный лагерь», и этими двумя словами выражается его отношение. Он считает, что лучше было бы для обороны, если бы в самом Владивостоке вообще не было гражданского населения. Он полагает, что гораздо было бы полезнее для обороны, если бы, по крайней мере, на 100 вер[ст] от морского берега совершенно не было бы гражданского населения. Военная оборона от этого выиграет. Между тем, для каждого ясно, что дело военной обороны усиливается прямо пропорционально экономическому благосостоянию края, плотности населения и самодеятельности населения [280] Государственная дума, четвертый созыв, первая сессия. Стенографические отчеты, часть 3. Ст. 1816.
.
Вопросы обороны, конечно, были важны для депутатов-дальневосточников, но они предлагали решать их иначе. Обсуждая принятый в конечном счете закон о воинском призыве в Приамурском генерал-губернаторстве, Чиликин и Шило предупреждали, что он затормозит заселение региона и нанесет вред его экономической жизни, не принеся особой выгоды государству, поскольку число призывников будет незначительным. Чиликин утверждал, что «казарменное заключение» на три года усугубит и без того существующую нехватку рабочих рук. Вместо призыва Шило предлагал организовать всеобщую самооборону, вооружая население и обеспечивая ему краткосрочное военное обучение. Подчеркивая мирный настрой китайских властей, Шило вместе с тем предостерегал, что возможно проникновение в Приамурье нерегулярных вооруженных формирований из Китая, самым эффективным средством против которых, на его взгляд, была именно вооруженная самоорганизация населения. Подобные взгляды были распространены и среди социал-демократов: Войлошников заявлял, что он против армии, исполняющей функции полиции и стоящей на страже интересов правящего класса, и за вооружение всего народа [281] Государственная дума, третий созыв, вторая сессия. Стенографические отчеты, часть 1. Ст. 3075–3077, 3080–3081; Государственная дума, третий созыв, пятая сессия. Стенографические отчеты, часть 1. Ст. 3062.
.
Суммируя критику, высказываемую дальневосточными депутатами, и указывая на единство дальневосточного населения, в том числе и местных властей, Рыслев цитировал слова военного губернатора Амурской области, Аркадия Михайловича Валуева, по поводу проблем переселения в регионе. Амурские «сектанты-крестьяне», которых привлекли на Дальний Восток свобода вероисповедания и отсутствие воинской повинности, вели свое хозяйство на американский лад и добились процветания. Отмена или сокращение прежних льгот ставили под угрозу будущее российского Дальнего Востока. Особенный урон нанесли сокращение земельных наделов в 1901 году, введение военной службы в 1909 году, рост налогообложения и государственной опеки. Валуев, по словам Рыслева, подчеркивал, что государственное вмешательство не может подменить собой свободу воли, что «амурские американцы» появляются без какой-либо связи с чиновничеством и их развитию мешает чрезмерный контроль, а те, кто приезжает не по своей воле, не смогут обеспечить успех переселенческой колонизации [282] Государственная дума, четвертый созыв, первая сессия. Стенографические отчеты, часть 3. Ст. 1740–1744.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу