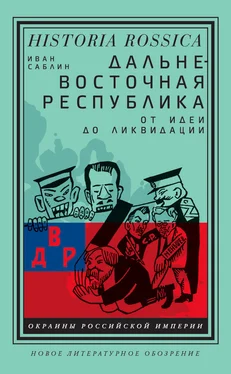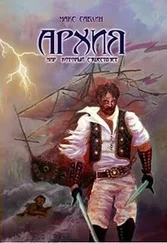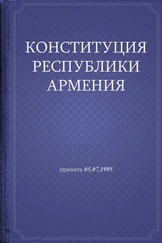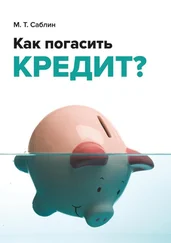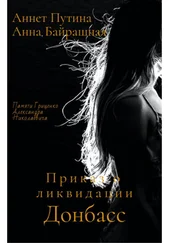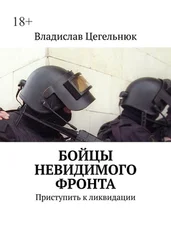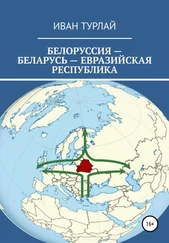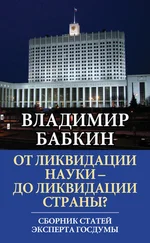УПРАВЛЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЕМ
Читинское и владивостокское правительства были вынуждены иметь дело с крайним разнообразием дальневосточного населения. Для обоих правительств важную роль в политике и экономике играли как крупные меньшинства – бурят-монгольское, корейское, украинское и китайское, – так и меньшие по размеру, но существенные еврейская, тюрко-татарская и японская общины, а также сообщества коренных народов Дальнего Востока [727]. Чита и Владивосток были не только озабочены тем, как расширить свою социальную базу и продемонстрировать свою инклюзивность как «третьего пути» в Гражданской войне, но и стремились вовлечь меньшинства в военные операции, а также, в случае ДВР, в экспорт революции в Азию.
Несмотря на интернационализм большевистских лозунгов, депутаты Учредительного собрания Дальнего Востока от меньшинств оказались вынуждены защищать право на национальное самоопределение. Эсер Петр Никифорович Дамбинов, Гомбожаб Цыбиков, Жамьян Шойванов и другие бурятские депутаты приняли участие в разработке законодательства по этническим меньшинствам вместе с политиками-корейцами (Хван), евреями (Абрам Давидович Киржниц) и украинцами (Лукьян Родионович Глибоцкий и Василий Афанасьевич Кийович). Дамбинов и Цыбиков были избраны в Комиссию по выработке Основного закона и подкомиссию туземных дел. Кийович участвовал в выборах по списку Хабаровской уездной рады, но его поражение не помешало ему принять участие в законодательной работе [728].
Конституция ДВР предоставляла «всем туземным народностям и национальным меньшинствам» на территории республики право на «широкое самоопределение» и учредила Министерство по национальным делам, которое сначала возглавил меньшевик-латыш Лукс, а затем большевик-бурят Матвей Иннокентьевич Амагаев. Задачей Министерства было осуществление на деле конституционных положений и разработка дополнительных законов. Согласно Конституции, буряты были единственной группой населения, имеющей право на территориальную автономию, которой их политики требовали начиная с 1917 года. Проект Киржница из Бунда заложил основу для культурно-национальной (экстерриториальной) автономии других национальных меньшинств [729]. Эти две идеи – территориальная автономия, которую предпочитали эсеры и некоторые другие социалистические националистические группы, и экстерриториальная автономия, предложенная австромарксистами и в дальнейшем разрабатываемая Бундом, – были частью леволиберального дискурса в последние годы Российской империи и после Февральской революции. В 1917 году их подробно обсуждали сибирские областники, а в 1918 году экстерриториальная автономия вошла в Конституцию УНР [730].
Но лишь буряты смогли хотя бы отчасти осуществить свое право на административную, судебную, экономическую и культурную национальную автономию в соответствии с Конституцией ДВР. И в этом опять была заслуга бурятских политиков. В последний день Учредительного собрания, 27 апреля 1921 года, бурятские депутаты провозгласили себя Бурят-монгольским съездом и сформировали Временное управление Бурят-монгольской автономной области (БМАО) в составе ДВР [731]. Хотя Политбюро высказалось в поддержку бурят-монгольской автономии еще в октябре 1920 года, ее осуществление на деле было затруднительным из-за конфликтов с властями неавтономных областей республики, а также склонности руководства ДВР к русскому национализму. Принятие законодательства откладывалось на протяжении месяцев. Временное управление БМАО получило правовое оформление лишь законом от 18 августа 1921 года [732]. Поскольку точные границы автономной области не были обозначены, конфликты за землю, особенно обострившиеся между различными группами населения с лета 1917 года, не прекратились. Продолжалась и эмиграция бурят-монголов во Внешнюю Монголию [733]. Кроме того, некоторые бурят-монголы были против автономии. Против бурятских националистов выступало религиозное балагадское движение под руководством буддийского монаха Лубсан-Сандана Цыденова, попытавшееся в 1919 году создать независимое теократическое государство [734].
Агван Доржиев, видный буддийский монах, служивший посредником между царским, а затем советским правительством и Тибетом, подчеркивал интернационалистский аспект национального самоопределения в постимперской России, первоначально выдвинутый Элбеком-Доржи Ринчино в 1920 году [735]. Но, в отличие от Ринчино, Доржиев в обращении в Наркоминдел и Наркомат по делам национальностей (Наркомнац) летом 1921 года говорил не о распространении мировой революции, а о создании буферных государств, разделяющих великие державы. Прибайкалье, Забайкалье, Монголия и, возможно, Тибет должны были стать буфером между Россией, Японией и Китаем – этот план очень напоминал выдвинутый в 1919 году проект монгольской федерации. В то же время Доржиев утверждал, что советское влияние позволяет построить новую жизнь на основе проникших в Монголию революционных идей, и указывал, что улучшение материальных условий населения поможет распространению влияния большевиков [736]. Наряду с успехом Монгольской революции в 1921 году усилия Доржиева, безусловно, внесли свой вклад в создание бурят-монгольских автономий как в ДВР, так и в РСФСР (в начале 1922 г.). Кроме того, в 1921 году он сумел добиться возвращения буддийского храма в Петрограде общине буддистов [737].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу