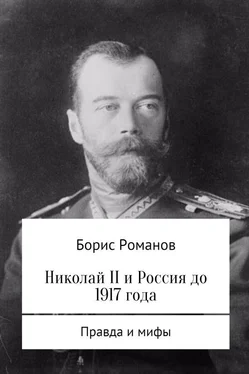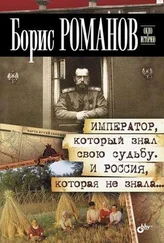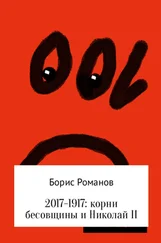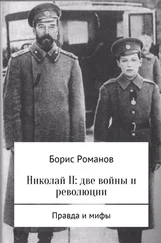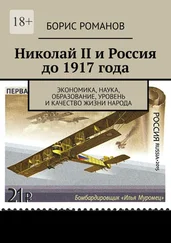III. Основное внимание в указанной статье уделено тем 53 % рабочих, которые не входили ни в число рабочей «рабочей аристократии» (30 %), ни в эти 17 % беднейших рабочих.
Каков же усредненный портрет такого рабочего? Он таков:
1. Это глава семьи, работающий в семье один (в 60–70 % семей) и обеспечивающий семью. При этом на питание семьи (и ведь семьи были большими) в среднем тратилось менее половины заработка (до 49 %) — а в Европе и США в то время на питание тратили на 20–30 % больше (!). Да, русский рабочий потреблял гораздо меньше мяса (из-за его дороговизны), но это, пожалуй, единственный крупный минус, который относится к питанию. Впрочем, для рабочих, приехавших в город из деревни вряд ли это был «сильный напряг», поскольку в русской деревне традиционно потребление мяса было низким.
2. Далее, 40 % рабочих (в основном семейных) снимали (арендовали) отдельные квартиры. Поскольку в указанной статье анализ ведется только для тех 70 % рабочих, чей годовой доход был менее 600р, и вычитая из этих 70 % еще 17 % беднейших, мы можем сделать вывод, что большая часть из основной массы «средних» рабочих (53 %) жила в отдельных квартирах (арендовала) их. Если я ошибаюсь, и цифра 40 % относится ко всем анкетированным, то за вычетом 17 % беднейших и 30 % рабочей аристократии (которые уж все снимали или имели собственные отдельные квартиры), каждая пятая из «средних рабочих семей» снимала отдельные квартиры, а остальные — комнаты в коммунальном жилье. И, наконец, 3 % рабочих имели собственное жилье (вероятно, небольшие деревянные дома в Киеве того времени). Средняя оплата за аренду жилья составляла 19 % от семейного бюджета.
Подобным образом дела обстояли не только в Киеве, но и в других крупных городах России. По воспоминаниям советского премьера А. Н. Косыгина (он родился в 1904 г), — его отец был квалифицированным петербургским рабочим, — семья из шести человек (четверо детей) жила (арендовала) в трехкомнатной отдельной квартире, и работал его отец один, и без проблем содержал семью.
Н. С. Хрущев на завтраке в его честь, устроенном 19.09.1959 киностудией «ХХ век-Фокс», вспоминал:
«Я женился в 1914-м, двадцати лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия (слесарь), я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40–45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт (410 граммов), а белый — 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо — копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень, цены же — сильно поднялись…»
В своей книге «Воспоминания» (ч. II, (изд. «Вагриус» М., 1997) Хрущёв писал: «…иной раз брали грех на душу и говорили, что в старое время, дескать, жилось хуже. Грех потому, что хотя и не все, но высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я трудился, до революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 г. я лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 г., когда работал вторым секретарем Московского комитета партии. Могут сказать, что зато другие рабочие жили хуже. Наверное, хуже. Ведь не все жили одинаково…» (с.191, 247). См. также: http://www.hrono.ru/libris/lib_h/hrush28.php
Но, может быть, молодой Никита Хрущев принадлежал к высококвалифицированной рабочей аристократии и его уровень жизни резко отличался от большинства рабочих? К 1917 г. Хрущеву было только 22 года и получить такую квалификацию он просто не успел. В 1909 г. рабочие, требуя прибавить зарплату говорили — «только плохой слесарь получает 50 р. в месяц — а хороший слесарь получает 80–90 руб. в месяц». Следовательно, молодой Н. С. Хрущев получал не как хороший, а как «плохой слесарь» — вернее, начинающий, молодой. Но уже мог арендовать трехкомнатную отдельную квартиру…
Так или иначе, очевидно, что «квартирный вопрос» до 1917 года не был для рабочих столь болезненным, каким он стал после 1917 года и оставался вплоть примерно до 1957\1960 гг, когда началось массовое строительство «хрущевок». Еще М. А. Булгаков в 1930-х годах писал в «Мастере и Маргарите», что (по сравнению с дореволюционным временем) «москвичей испортил квартирный вопрос». И не только москвичей. Еще хуже после 1917 г дела с жильем обстояли и во всех крупных городах СССР, и особенно в Ленинграде (в Ленинграде еще и в 1988 г лишь те же 40 % рабочих жили в отдельных квартирах, остальные — в коммуналках, зачастую огромных \до 10 и более семей\).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу