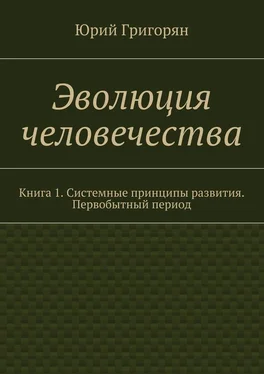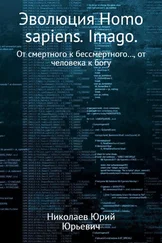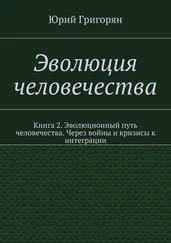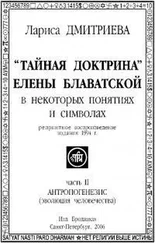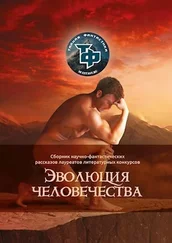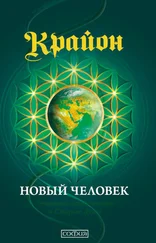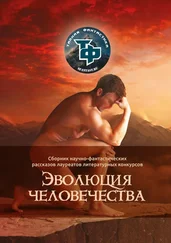Структура индуктивного умозаключения в самой простой, но, в общем-то, типичной форме, я представлю так (для упрощения отмечу только три признака и три объекта):
А, обладающий признаками a,b,c, имеет признак d,
B, обладающий признаками a,b,c, имеет признак d,
C, обладающий признаками a,b,c, имеет признак d.
Следовательно, все объекты, обладающие признаками a,b,c, имеют признак d.
Так вот, если поставить вопрос, который логики не желают слышать, – каким образом можно собрать такие единичные сведения, или почему такие факты оказались объединенными, – то либо придется отрицать саму возможность возникновения подобной группы посылок (ее вероятность соответствует вероятности случайного воспроизведения музыки Моцарта стукающей по клавишам фортепьяно шимпанзе), либо заявить об отмеченном парадоксе: выбор этих посылок возможен только на основании общего заключения, вытекающего из посылок. Аксиома выбора: существует функция g, позволяющая для произвольного множества А указать элемент g (A) этого множества, – в данном случае ничем не поможет. Функция не известна, множественность не определена.
Бездоказательность вывода, на что указывает Поппер, кроется в этой безосновательности набора посылок. У любых случайно взятых предметов, имея в виду бесконечное, или хотя бы неисчислимое, количество свойств, всегда можно обнаружить группу однотипных признаков и сделать обобщающий вывод. Следовательно, такие «универсальные законы» будут делаться столь же случайно и неисчислимо. Последующая их проверка будет попросту бессмысленной. Невозможно сделать даже вероятностную оценку, если неопределенным является бесконечное число событий, относительно которого следует рассчитывать вероятность данного случайного обобщения. Значимость она может получить, только если ее основание не случайно.
Обратимся теперь к другому умозаключению, также взятому под свое покровительство формальной логикой. Умозаключение по аналогии. Вполне в согласии с обычным описанием я его представлю следующим образом:
А, обладающий признаками a,b,c, имеет признак d
Следовательно, B, обладающий признаками a,b,c, также имеет признак d.
На сей раз произвол вывода кажется еще более очевидным. У любых двух предметов выявится несколько общих признаков, но разумно ли будет утверждать о совпадение и любого из остальных? В таком случае все предметы придется считать тождественными. Опять-таки выделение посылки ничем не обосновано. Парадокс выбора таков же, как и при индукции. Почему выделен «А», почему у него акцентируются именно признаки a,b,c и d, что указывает на В – вопросы, которые логик посчитает неуместными, так как, по его мнению, их следует относить к совершенно иной сфере, к сфере, положим, психологии.
Что же остается логике? Оценка правомерности заключения? Но как может логика определять степень достоверности вывода, если основание ей не подвластно? Придется выдумывать совершенно несвязанные с этим процессом познания искусственные приемы проверок, в чем-то напоминающие метод проб и ошибок, так или иначе, натыкаясь на проблему бесконечности. Прав был Кант, когда находил, что общая (формальная) логика не может выступать ни в качестве «органона» (орудия, инструмента) действительного познания, ни в качестве «канона» его – в качестве критерия проверки готового знания. Единственное, что она умеет, – это «подводить под правила, т.е. различать, подчинено ли нечто данному правилу… или нет» (6, с.217—218).
АНАЛОГИЯ И ИНДУКЦИЯ – ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СУЖДЕНИЯ
Постараемся все же порассуждать, почему мы делаем такие умозаключения. Вот, например, учебный вариант аналогии, который применялся еще до космических полетов. На Земле есть атмосфера, вода, умеренная температура и т. п. Считалось, что то же самое есть на Марсе. Вывод: на Марсе, как и на Земле, есть жизнь. Ясно, что в основание вывода брались не всевозможные признаки, а те, которые как-то увязывались нами с признаком жизни. Утверждать определенно, что жизнь (d) обусловлена набором этих (a,b,c) не можем, – такого общего знания нет, иначе мы сделали бы достоверный дедуктивный вывод. Но эта взаимосвязь кажется нам важной. В какой форме она присутствует в нашем сознании, правильнее сказать, подсознании, определяя избирательность отношения к конкретным проявлениям этих признаков?
Имея в виду процесс познания и то, что при этом в той или иной мере бывает задействована вся иерархия ментальной системы, я предпочитаю обратиться к уровню отражения, предшествующему логическому, а именно – к психологическому. Конечно, надо иметь в виду соответствующую активацию и нижележащих уровней, в частности, физиологического уровня. Этот путь приведет нас к исходному акту любого познания – взаимодействию с окружающим миром, которое в ряде случаев осуществляется путем мысленных действий со следами прошлого взаимодействия. Но ограничимся только переходом от психического к логическому. В этом плане проще всего было бы указать на ассоциативный характер взаимосвязи воспринятых признаков объекта.
Читать дальше