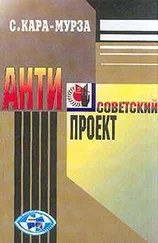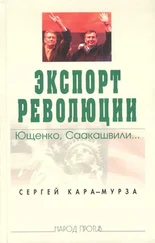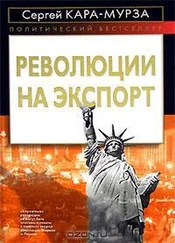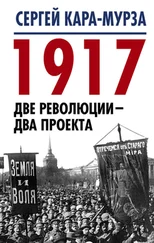Прежде всего, Вебер указал на очень важные изменения капитализма начала ХХ века. Для ортодоксальных марксистов и либералов обычным было считать, что русская революция произошла « слишком рано » — не созрели для нее еще предпосылки, слаба была буржуазия, не созрела почва для демократии. Это представление устарело, оно не учитывает фазу «жизненного цикла» всей капиталистической формации, прежде всего Запада, следовать которому пытались и либералы, и меньшевики.
Изучая, события в России, М. Вебер приходит к гораздо более сложному и фундаментальному выводу: « слишком поздно! ». Он утверждал, что успешная буржуазная революция в России уже невозможна. И дело было, не только в том, что в массе крестьянства господствовала идеология «архаического аграрного коммунизма», несовместимого с буржуазно-либеральным общественным устройством. Главное заключалось в том, что российская буржуазия оформилась как класс в то время, когда Запад уже заканчивал буржуазно-демократическую модернизацию и исчерпал свой освободительный потенциал. Вебер считал, что буржуазная революция может быть совершена только «юной» буржуазией, но эта юность неповторима. Россия в начале ХХ века уже не могла быть изолирована от «зрелого» западного капитализма, который утратил свой оптимистический революционный заряд и занимается организацией дополняющей экономики на периферии Запада.
А. Кустарев пишет: «Самое, кажется, интересное в анализе Вебера — то, что он обнаружил драматический парадокс новейшей истории России. Русское общество в начале ХХ века оказалось в положении, когда оно было вынуждено одновременно “догонять” капитализм и “убегать” от него. Такое впечатление, что русские марксисты (особенно Ленин) вполне понимали это обстоятельство и принимали его во внимание в своих политических расчетах, а также в своей зачаточной теории социалистического общества. Их анализ ситуации во многих отношениях напоминает анализ Вебера».
Надо только удивляться, что к сходным выводам Вебер и Ленин пришли, исходя из разных философских посылок.
Уже в 1906 г. Вебер предвидел, с каким трудностями столкнется реформа Столыпина. Он подчеркивал, что коммунистический радикализм возникает именно там, где экономические условия существования крестьянства лучше всего (в среднем), то есть где понятия «состоятельность» и «бедность» становятся бытовой реальностью, а это происходит там, где повинности крестьян меньше всего. Таким образом, при аграрной реформе в России возникает дилемма: или социальное расслоение деревни, которое обрекает людей на голод и создает условия для бунта — или усиление общины. При этом Вебер указывал, что при капиталистической реформе села идеи архаического крестьянского коммунизма будут распространяться в сочетании с идеями современного социализма. Так оно и произошло в ходе становления большевизма.
Вебер указал особенность российского общества и государства, важную и для либералов, и буржуазии: «Власть делала все возможное, в течение столетий и в последнее время, чтобы еще больше укрепить коммунистические настроения. Представление, что земельная собственность подлежит суверенному распоряжению государственной власти (искоренявшей, кстати, частное право на всякое другое “нажитое” добро), было глубоко укоренено исторически еще в московском государстве, так же как и община».
Кустарев поясняет: «Если это так, то негативное отношение власти и ее подданных к частной собственности не было привнесено в русское общество большевиками, на чем так упорно настаивали и сами большевики, и антикоммунистическое обыденное сознание, имеющее очень хорошо оформленную “академическую” ипостась. Можно думать, что эта особенность есть типологический определитель “русской системы”, а не свидетельство ее “формационной” или “цивилизационной” отсталости».
Вебер предполагал, что крах царского режима на фоне усиления «коммунистических настроений» может привести «к чему-то совершенно небывалому, но к чему именно — предвидеть невозможно». Крах царского режима привел к СССР, а не к западному капитализму.
Исторически в ходе собирания земель в процессе превращения «удельной Руси в Московскую» шел обратный процесс — упразднение зачатков частной собственности. Некоторые историки именно в этом видят главный результат опричнины Ивана Грозного: владение землей стало государственной платой за обязательную службу. Современный автор Р. Пайпс пишет: «Введение обязательной службы для всех землевладельцев означало… упразднение частной собственности на землю. Это произошло как раз в то время, когда Западная Европа двигалась в противоположном направлении. После опричнины частная собственность на землю больше не играла в Московской Руси сколько-нибудь значительной роли». 94
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу