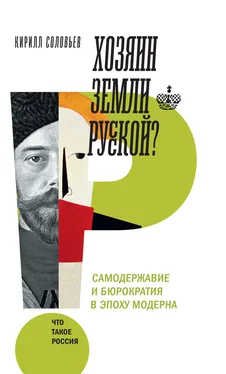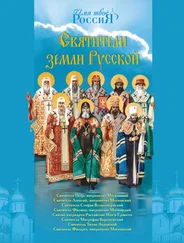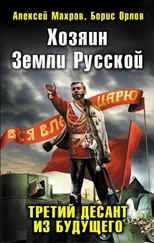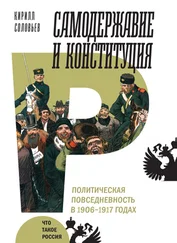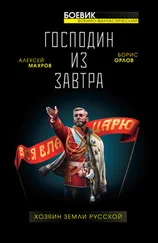А. В. Тыркова в январе 1905 года вспоминала, какое сильное впечатление на нее произвели прошлогодние сентябрьские газеты с туманными намеками на учреждение народного представительства. Она тогда жила в эмиграции и входила в круг П. Б. Струве. Как раз тогда к издателю «Освобождения» приехали П. Н. Милюков и князь П. Д. Долгоруков. Они чрезвычайно скептически отнеслись к слишком эмоциональному отклику Тырковой на газетные заметки, а Милюков заявил, что «нам еще надо годами, а не месяцами считать ход политического освобождения России». А в октябре П. Н. Милюков сам побывал в Петербурге и вернулся совсем в другом настроении: «То, что мы задумывали с таким трудом, лепили по маленьким кирпичикам ценой усилий и ухищрений… считая, что еще годы и годы придется вести черную политическую работу – все это уже есть… И больше того. Жизнь ушла вперед. Надо догонять, чтобы не отстать». И, по словам А. В. Тырковой, он говорил «с удивлением и почти жаром, насколько горячность возможна для такого рассудочного, осторожного человека».
Настроения же в земской среде действительно очень быстро менялись. Так, еще 9 октября И. В. Гессен писал П. Б. Струве, что земские деятели, общавшиеся с П. Д. Святополк-Мирским, подлаживались под взгляды министра и не решались выразить собственную точку зрения. Например, П. Д. Святополк-Мирский в разговоре с Ф. А. Головиным заметил, что многие земцы опасаются, как бы превращение задуманного еще Плеве Совета по делам местного хозяйства в совещательное представительное учреждение не стало бы прелюдией к введению конституции. На это Головин ответил, что абсолютное большинство земцев – противники конституции, и лишь крайние элементы, составляющие меньшинство земских собраний, не удовлетворятся реформой Совета. Долго с министром общался и князь Г. Е. Львов. Он заявил, что у деятелей местного самоуправления «нет никакой программы», и выразил опасение, «что если земство будет спрошено, оно окажется несостоятельным». Иначе говоря, в начале октября 1904 г. земские лидеры не чувствовали себя слишком уверенно: прежде всего, они пока не верили в возможность широкой поддержки радикальных политических требований в земской среде.
В начале ноября должен был состояться земский съезд, в сущности, санкционированный самим министром внутренних дел. К этому моменту общественные настроения в корне изменилась, качнувшись влево. В «высших сферах» эту перемену явственно ощущали. Так, жена министра внутренних дел Е. А. Святополк-Мирская 30 октября 1904 года записала в своем дневнике: «По-моему, они (земцы – К. С. ) делают большую ошибку, и, по-моему, тут есть даже доля подлости: пока их держали в страхе – молчали, а теперь, когда человек явился, который хочет удовлетворить все разумные требования, они все портят тем, что торопятся и хотят скандалы делать».
На земском съезде 6–8 ноября 1904 г. возобладали конституционалисты. «Факт тот, что резолюция нашего съезда сыграла огромную роль. Прежде запретные мысли после нее стали везде выражаться открыто и приобрели права гражданства», – 27 ноября писал жене П. А. Гейден. Теперь идеи конституционализма становились общераспространенными. «Иногда, когда вдумываешься в то, что творится, когда смотришь на это мгновенное, почти чудесное преображение страны, кажется, что находишься накануне Великой французской революции, – утверждал В. Я. Богучарский 3 декабря 1904 г. – Как там в [17]89 году не было ни одного республиканца, а вскоре не осталось уже ни одного монархиста, так у нас сейчас профессора, чиновники, домовладельцы, думцы, еще вчера не интересовавшиеся конституцией и почти не слыхавшие про нее, сегодня вдруг совершенно необычайным образом единогласно вотируют конституционные резолюции».
И все же и в конце ноября Святополк-Мирский продолжал настаивать на своем. Он убеждал императора в необходимости «либеральных реформ». Если «не удовлетворить вполне естественных желаний всех, то перемены будут и уже в виде революции». Как и прежде, министр сводил свою программу к трем пунктам: законность, веротерпимость и участие представителей общественности в законотворческой деятельности. Реализация этих положений позволила бы ограничить административный произвол. На этот раз Николай II уже возражал. Он был уверен, что перемен желали лишь интеллигенты, а народ в своем большинстве оставался предан монарху.
Записка императору с подробным изложением программы реформ была подготовлена Крыжановским к 19 ноября. Помимо пункта о призыве выборных она заключала в себе мысль об обеспечении начал веротерпимости в России, отмене правовых норм, дискриминировавших сословные (крестьян) и национальные (евреи) группы, об объединении правительственной власти (то есть создании кабинета министров), расширении контрольных полномочий Сената, сферы прерогатив органов местного самоуправления, замене общинной собственности частной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу