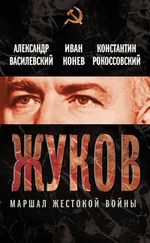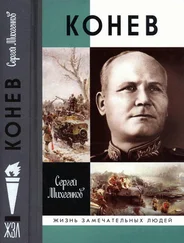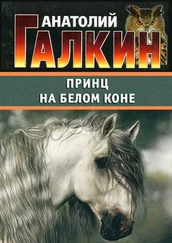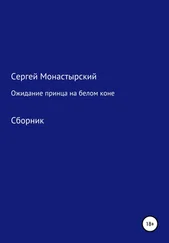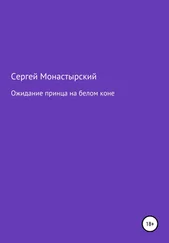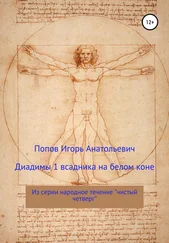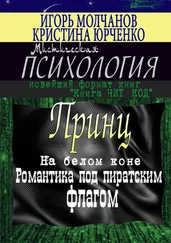Генерал Типпельскирх, а впоследствии военный историк, исследуя сражение у Погорелого Городища, писал: «Прорыв удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились на южный фронт, были задержаны и введены сначала для локализации прорыва, а затем и для контрудара».
Всего генерал Модель вынужден был перебросить сюда 12 дивизий.
Войскам Западного и Калининского фронтов удалось продвинуться вперёд на 35–40 километров. Был ликвидирован опасный плацдарм на левом берегу Волги в районе Ржева. Но конечной задачи проводимой операции выполнить не удалось. Немцы держались за Ржев с яростным упорством. И это настораживало. Тем более что некоторые разведданные свидетельствовали в пользу того, что группа армий «Центр» готовит новый удар на Москву. Удобнее и выгоднее плацдарма, чем Ржевский выступ, трудно было себе представить.
К концу августа в районе Ржева наступило затишье. Но Ржевская битва не закончилась. Она лишь сделала вынужденную паузу, чтобы пополнить дивизии противостоящих сторон, подвезти огнеприпасы, отремонтировать танки, которые ещё можно было послать в бой. Живые хоронили убитых. Над полем боя на десятки километров стоял чудовищный смрад.
По некоторым данным, только 20-я армия Западного фронта потеряла около 60 тысяч человек. Командовал армией генерал Рейтер [144]. Воевал он примерно так же, как и Болдин.
Пережившие ту страшную битву рассказывали, что командиры зачастую гнали роты и батальоны на неподавленную оборону противника, что приказ № 227 освобождал от пули только мёртвых. Расстреливали не только трусов и паникёров, но попавших под горячую командирскую руку. Расстреливали для устрашения. Тогда это не считалось жестокостью. Строили полк. Копали яму. Выводили «трусов» и «паникёров». Зачитывали приговор. Комендантский взвод, не мешкая, делал своё дело. И полк шёл в бой.
Буквально накануне наступления в газете «Красная звезда», которая в годы войны стала главной газетой сражающегося народа, было опубликовано стихотворение Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом…»:
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоём дому чтобы стон,
А в его по мёртвым стоял.
Так хотел он, его вина, —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой…
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
А на следующий день политинформаторы взводов и рот, парторги батальонов и батарей разнесли по окопам свежий номер «Красной звезды» со статьёй Ильи Эренбурга, которая значительно усиливала главную тему дня и определяла её, как оказалось, на годы. Статья называлась «Убей!»: «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” разряжает ружьё. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьёт твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь немца, немец убьёт тебя. Он возьмёт твоих <���близких> и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого — нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! — это просит старуха-мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»
И стихотворение Константина Симонова, и заметка Ильи Эренбурга, по жанру относящаяся, скорее, к листовке политрука, были своеобразным эмоциональным приложением к приказу «Ни шагу назад!».
Они западали глубоко в душу солдат и не выводились из крови на протяжении всей войны. Более того, чем ближе становилась Германия, тем сильнее в солдатской крови закипала ненависть.
Британский писатель Энтони Бивор в своей книге «Падение Берлина. 1945» упрекнёт и авторов этих строк, и победителей в том, что «подобные лозунги спровоцировали на насилие, совершавшееся военнослужащими Красной армии в отношении гражданского населения на территории Германии в 1944–1945 годах».
Глава тридцатая
Сталинград
«Хорошо помню разговор 29 сентября в землянке, в балке севернее Сталинграда…»
Читать дальше
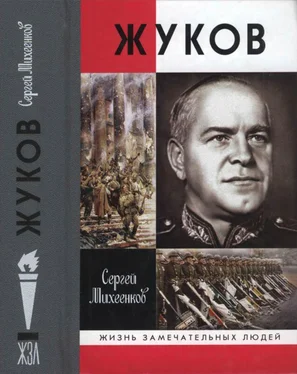

![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)