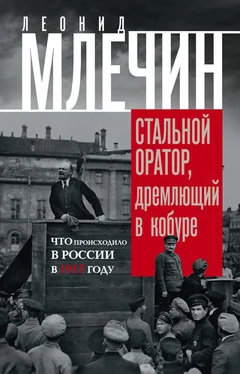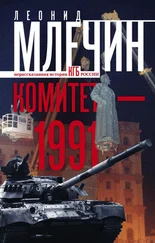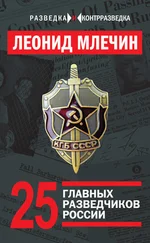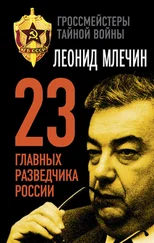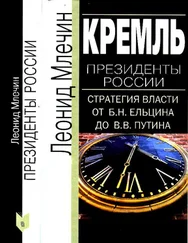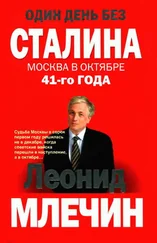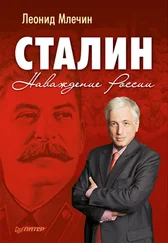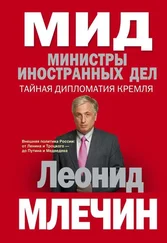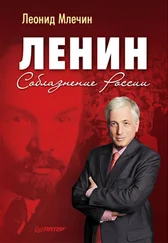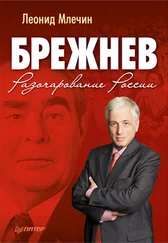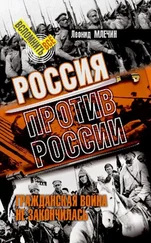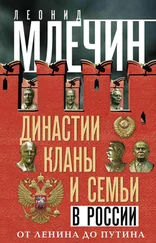4 марта большевик Фрунзе был назначен начальником городской милиции Минска. Он приказал разоружить полицейских и жандармов, те и не сопротивлялись. И выпустить из тюрьмы – Пищаловского замка – политических заключенных.
Временное правительство сразу оказалось под огнем яростной критики со всех сторон. Это была первая власть в России, которая позволяла себя как угодно оценивать – и не карала за это. Потому новых руководителей страны разносили в пух и прах. Фрунзе тоже обрушился на Временное правительство: «Свобода слова и печати урезаны. Стеснена, а частью прямо уничтожена свобода собраний. Введена смертная казнь».
Наверное, Михаил Васильевич был искренен в своем возмущении. Но очень скоро его собственная большевистская партия полностью уничтожит все эти свободы, и это нисколько не смутит Фрунзе. А смертная казнь станет повседневным методом расправы с политическими противниками.
Страсти накалялись постепенно. Но общество быстро подготовило себя к террору. Едва отрекся от престола император, как 1 марта 1917 года в газете «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов» появилась заметка под названием «Враги народа». Речь шла об аресте царских министров. Кажется, это первое использование словосочетания, которое станет таким пугающим, – «враг народа».
И сам Фрунзе вскоре заговорит другим языком:
– Мы не размазня вроде Керенского. Да, мы жестоко расправляемся с врагами. А врагов у нас много…
Грызть семечки и играть на гармошке
15 августа 1917 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, в Москве открылся I Всероссийский церковный собор. На литургии в Успенском соборе в Кремле, которую совершили три митрополита, Киевский – Владимир, Петроградский – Вениамин и экзарх Кавказский – Платон, присутствовали члены Временного правительства во главе с министром-председателем Александром Керенским.
«Ходил на Красную площадь посмотреть на крестный ход и молебствие по случаю открытия Церковного собора, – вспоминал один из москвичей. – Тысячи хоругвей, сотни священнослужителей в золотых рясах, торжественный звон по всей Москве… Зрелище великолепное и умилительное, но, к сожалению, не привлекло несметных толп… Молиться нужно, а не совещаться, не речи красивые говорить. Ни Керенский, ни сотни гениальных людей нам уже теперь не помогут».
Молебен на Красной площади производил неотразимое впечатление еще и потому, что происходил он в обстановке смятения и растерянности, в предчувствии надвигающихся бед.
16 августа в храме Христа Спасителя собор приступил к работе.
– Созерцая разрушающуюся на наших глазах храмину государственного нашего бытия, представляющую как бы поле, усеянное костями, я, по примеру древнего пророка, дерзаю вопросить: оживут ли кости сии? Святители Божии, пастыри и сыны человеческие! Прорцыте на кости сухие, дуновением всесильного Духа Божия одухотворяще их, и оживут кости сии и созиждутся, и обновится лице Святорусский земли, – такими словами закончил свое приветственное слово митрополит Московский владыка Тихон (Белавин), будущий патриарх.
Избирали патриарха 5 ноября 1917 года. После окончания молебна старейший член собора митрополит Киевский Владимир вскрыл опечатанный ларец, в который были вложены жребии с именами кандидатов, а специально для этого вызванный из Зосимовой пустыни старец иеромонах отец Алексий на глазах всего собора вынул из ларца один из жребиев и передал его Владимиру.
– Тихон, митрополит Московский, – при гробовом молчании всех присутствующих провозгласил митрополит Владимир.
Избирали патриарха под гул артиллерийской канонады – большевики вслед за Петроградом брали власть и в Москве.
Для церкви приход большевиков и начавшаяся Гражданская война были событиями катастрофическими. Храмы опустели. Патриарха Тихона арестовали. Потом выпустили, но чекисты продолжали неустанно работать против церкви. Новое, «шпионское» дело, по которому он проходил, грозило высшей мерой наказания. Но патриарх в 1925 году умер.
Знаменитая революционерка Вера Николаевна Фигнер, участница покушения на императора Александра II, много лет отсидевшая в Шлиссельбургской крепости, писала в те дни: «Все утомлены фразой, бездействием, вязнем безнадежно в трясине наших расхождений… Ни у кого нет и следа подъема благородных чувств, стремления к жертвам. У одних этих чувств и стремлений вообще нет, другие измучены духовно и телесно, подавлены величиной задач и ничтожеством средств человеческих и вещественных для выполнения их».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу