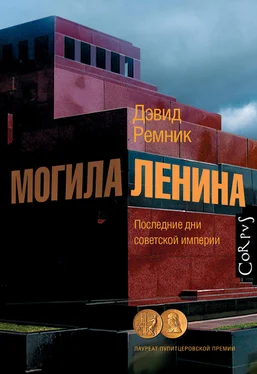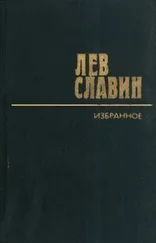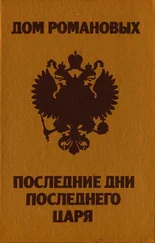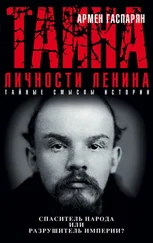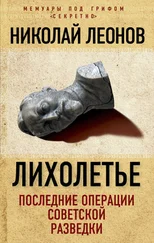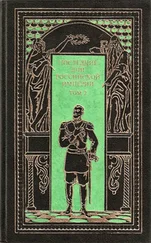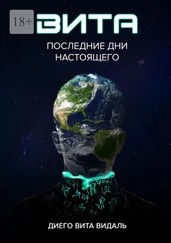Вернувшись из отпуска, который он провел, как обычно, на черноморском побережье, Горбачев объявил на заседании Верховного Совета, что намерен поддержать программу “500 дней”. Для консерваторов этого было достаточно. Они начали борьбу за политическое выживание, и даже не борьбу, а войну, которая бушевала 11 месяцев. Глава КГБ Владимир Крючков завалил Горбачева служебными записками, в которых утверждал, что “500 дней” — поддерживаемая Западом попытка уничтожить социализм, сокрушить партию, ослабить страну. На многочисленных встречах партийные боссы и руководители военно-промышленного комплекса грозили взбунтоваться против Горбачева, если он все-таки утвердит программу. Готовился заговор, но Горбачев был слишком тщеславен и самонадеян в своей уверенности, что может совладать и с происками консерваторов, и с недовольством масс так же легко и ловко, как он управился с делом Нины Андреевой в 1988 году.
Протокол заседания политбюро от 12 марта 1990 года показывает, какие настроения царили в верхах КПСС, как партийцы намеренно сгущали краски, чтобы стимулировать применение чрезвычайных мер. “Происходит радикализация общественного сознания, усиливается недоверие к официальным политическим структурам и органам управления, все более жесткий характер приобретает критика «партократии», местных и центрального аппарата. <���…> Сложившейся в стране обстановкой пытаются воспользоваться силы оппозиции. Под флагом передачи власти «самоорганизующемуся» обществу фактически вынашиваются планы ее захвата явно антидемократическим путем — через митинговое давление, посредством использования так называемого круглого стола”. Политбюро считало, что “здоровые силы общества” требуют “решительных мер” “на основе закона”. Необходимо “всеми силами пропаганды остановить дискредитацию армии, КГБ и МВД… разоружить [оппозицию] идеологически и подорвать ее авторитет в глазах общества”.
Для тысяч верующих и неверующих москвичей первым предвестником мрачных событий следующего года стал убийственный удар топором в Семхозе. Когда я узнал о гибели Александра Меня, я не сразу осознал масштаб этого события и масштаб этой личности. Для меня это было убийство сельского священника, настоятеля храма в часе езды от Москвы. Но шли дни и дни, и люди не переставали говорить о том, как много значил для них этот человек.
По крайней мере, в теории перестройка дала свободу в духовной сфере так же, как в политике и экономике. После 70 лет насаждения атеизма режим прекратил гонения на верующих и на церковные институты. Вдруг вошло в моду слово “богосискательство”. Появилось множество шарлатанов вроде Анатолия Кашпировского, но происходило и хорошее. В церковь стали ходить не одни только старушки, родившиеся при царском режиме. Изучение религии перестало быть уделом диссидентов. Горбачев вернул Русской православной церкви разрушенные монастыри и соборы. Снова открылись синагоги и мечети. Но, подобно тому как политические реформы постоянно сталкивались с сопротивлением, возрождение религиозной жизни не могло случиться в одночасье. Церковная номенклатура, расставленная на своих постах партийными и кагэбэшными начальниками, собиралась сопротивляться не менее жестко, чем номенклатура партийная.
Духовная жизнь находилась в ведении государства за много веков до явления большевиков. В противовес католической церкви, выстроившей свои независимые институты после падения Римской империи, византийская церковь всегда зависела от государства. Византийский император председательствовал на церковных соборах и почитался наместником “Бога на земле”. Уже великие князья Московского княжества требовали от духовенства нарушать тайну исповеди, особенно если речь шла о безопасности государства. Иван Грозный пытал священников, а одного митрополита заключил пожизненно в монастырскую тюрьму. Слово “царь” происходит от слова “цезарь”, но, как писал великий духовный писатель Иосиф Волоцкий, царь — это и церковный глава. При встрече с Александром I в Восточной Пруссии Наполеон сказал ему: “Вы одновременно император и папа. Это очень удобно”.
Большевики презирали Русскую православную церковь, видя в ней олицетворение старой России. Ленин изобрел бездуховную утопию. Но когда революции понадобилось мобилизовать миллионы неграмотных, проповедовать им Маркса оказалось невозможно. Партия, наследница российской государственности, сочла выгодным сотрудничество с церковью, а не уничтожение ее на корню, предпочла поставить ее на колени, а не отрубать голову. Сталин знал, какие глубокие струны затрагивает церковь в русской душе. Чтобы добиться лояльности населения во время войны, он обращался не столько к коммунистической идеологии, сколько к мистическому чувству русскости, к Святой Руси и ее защитникам: Александру Невскому, Суворову, Кутузову. В своих радиообращениях Сталин не прибегал к атеистической риторике. Он освободил из лагерей некоторых священников, дал им хорошие церковные должности, положил оклад. Он стал их царем и папой. Очень удобно. Но когда война с Германией закончилась, церкви снова стали крушить, священников, раввинов и муфтиев бросать в тюрьмы, верующих называть “врагами народа” — война с религией пошла своим чередом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу