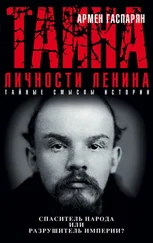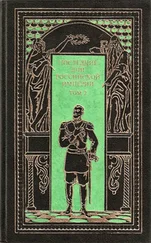Яковлев требовал, чтобы партия признала свое прошлое и осудила старые методы. “История не может быть иной, но мы иными быть обязаны, — сказал он. — Идея о насилии в качестве повивальной бабки истории исчерпала себя, равно как и идея власти диктатуры, непосредственно опирающейся на насилие”.
Эта речь далась Яковлеву очень непросто. В том или ином качестве он служил КПСС все послевоенные годы. Он говорил, что впервые усомнился в советском руководстве, узнав, что Сталин отправляет вернувшихся советских военнопленных прямиком в лагеря, опасаясь “иностранного влияния”. С тех пор его образ мыслей претерпел радикальные изменения, как и у множества его сверстников. Но он прекрасно знал, что большинство партийных чиновников если и изменилось, то очень незначительно. Несмотря на внешнюю приверженность словарю горбачевской эпохи — “перестройка”, “ускорение”, “демократизация” и так далее, — фундаментальным переменам они решительно противились. В своем докладе, приуроченном к юбилею Французской революции, Яковлев признал и это: “Выход на новый виток цивилизации не проходит безболезненно. Острые драмы порождаются и инерцией уходящих общественных структур, и неприятием нового, и революционным нетерпением”.
Яковлев даже завуалированно коснулся “проблемы” того, что революции пожирают своих детей, чтобы уверить консерваторов, что на этот раз охоты на ведьм не будет. Он не стал обличать своих противников, он предупредил их. “Партия, которая исповедует легенды, живет тщеславными иллюзиями, — такая партия обречена”, — сказал он.
К началу 1990-го было ясно, что монолит КПСС вот-вот развалится. Сахаров умер, но его требование лишить партию монополии на власть стало лозунгом растущей демократической оппозиции. Что-то должно было убедить Горбачева решиться на такой шаг. Предложений Сахарова и Яковлева, возникновения в стране десятков новых партий все еще было недостаточно. Ему требовался удар по голове, чтобы замахнуться на партию. Как обычно, эту роль с удовольствием взяли на себя литовцы.
В январе 1990-го Горбачев приехал в Вильнюс. Он был уверен, что у него получится утихомирить разбушевавшуюся республику и уговорить местных партийных лидеров вернуться в лоно метрополии. Яковлев уже побывал в Вильнюсе и считал, что отрицать литовскую точку зрения о том, что Москва по-прежнему проводит агрессивную имперскую политику, попросту аморально. Горбачев с ним не согласился. Он винил главу литовской компартии Альгидраса Бразаускаса в том, что тот отмежевался от всесоюзной организации и позволил “профессорам-романтикам” из “Саюдиса” забрать себе столько власти. Каждая следующая вильнюсская встреча только усугубляла гнев и замешательство Горбачева. Пока прогрессисты были ему послушны, Горбачева все устраивало. Но теперь его прежние последователи обгоняли его, а это было недопустимо. Горбачев терял политический контроль.
Во время поездки у Горбачева вышла стычка с пожилым заводским рабочим, который держал в руках плакат “Литве — полную независимость”.
— Кто вам велел написать это? — сердито спросил Горбачев.
— Никто. Я написал это сам, — ответил рабочий.
— А вы кто? Вы где работаете? — не унимался Горбачев. — И что значит “полная независимость”?
— Это значит то самое, что было у нас в 1920-е годы, когда Ленин признал суверенитет Литвы, потому что ни одна нация не вправе управлять другой нацией.
— В нашей большой семье Литва стала развитой республикой, — сказал Горбачев. — Какие же мы эксплуататоры, если Россия продает вам хлопок, нефть и другое сырье, причем не за твердую валюту?
Рабочий перебил Горбачева:
— У Литвы до войны была твердая валюта. Вы отняли ее у нас в 1940-м. А вы знаете, сколько литовцев было в 1940-е выслано в Сибирь и сколько их там погибло?
Горбачев не мог больше сносить такую наглость.
— Я не хочу больше говорить с этим человеком! — взорвался он. — Если люди в Литве разделяют подобные взгляды и лозунги, их ждут тяжелые времена. Я больше не хочу с вами разговаривать.
Раиса попыталась успокоить мужа.
— Помолчи! — рявкнул он.
В последний день своего визита в Литву Горбачев наконец признал очевидное. Год назад сама мысль о многопартийной системе казалась ему “чепухой”. Теперь он говорил: “Осуществление многопартийной системы — не трагедия, и если эта система… соответствует потребностям общества, мы не должны как черт ладана бояться многопартийной системы”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу