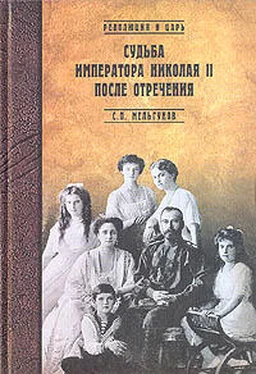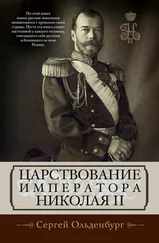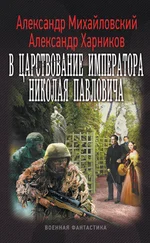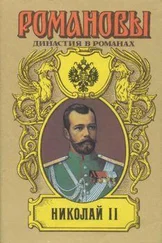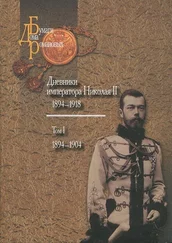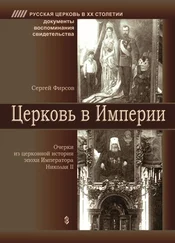Перед этим Керенский сказал: «С несомненностью выяснялось одно – целью переворота не было восстановление низвергнутой династии».
Дело ген. Гурко рассматривалось почему-то военной контрразведкой – учреждением, ведавшим шпионажем. Тогдашний начальник этого учреждения полк. Никитин утверждает в воспоминаниях, что в этом деле по привлечению ген. Гурко по ст. 126 Уг. ул. находился «только один лист бумаги – письмо генерала Царю 4 марта». Контрразведка, по словам полк. Никитина, «состава преступления» не нашла. В газетах того времени мотив, по которому дело ген. Гурко прекращалось и арестованный подлежал освобождению, определялся по-иному: инкриминируемое письмо может свидетельствовать о подготовке к совершению действий, но это действие покрывалось изданным после 4 марта актом об амнистии. Вина ген. Гурко заключалась в том, что он выражал восхищение великодушным поступком отречения Царя и выражал надежду, что «по истечении целого ряда лет грозных испытаний взоры обратятся к наследнику».
Новые злоключения Вырубовой, ею описанные, являют собой яркую страницу для комментирования целесообразности плохо продуманной правительством меры высылки «контрреволюционеров» за границу в дни войны – в революционное время, когда в распоряжении власти не было налаженного административного аппарата. Вместе с тем здесь нельзя не увидеть запоздалого предзнаменования возможных перипетий, которые, может быть, пришлось бы пережить царской семье при попытке отправить ее за границу, наперекор господствующему общественному мнению. Если в Белоострове, где узнали, что в вагоне находятся высылаемые «контрреволюционеры», собравшиеся на платформе еще только «свистели и кричали», то в Рихимлякове толпа уже «в несколько тысяч солдат» держала себя более агрессивно и с «дикими криками» окружила вагон, отцепила его от паровоза и требовала выдачи «великих князей и ген. Гурко». Спасли положение приехавшие на автомобиле матросы – делегаты гельсингфорсского совета. Местный совет получил от кого-то из Петербурга телеграмму с предписанием задержать высылаемых. «Царская наперсница» и ее спутники представляли «малую добычу», но их все-таки задержали до выяснения причин высылки. В Гельсингфорсе арестованные были помещены в трюмы бывшей царской яхты «Полярная Звезда», где просидели пять суток под угрозой, что с ними будет покончено самосудом. Затем последовала Свеаборгская крепость. Здесь заключенных продержали больше месяца. В данном случае привлекает внимание не привычное уже описание (вероятно, несколько стилизованное), в котором фигурируют «озверелые матросы» и добрые гении в их среде, спасающие арестованных от произвола и насилия… Это были страшные во флоте дни реакции на корниловское выступление. Родители Вырубовой напрягли все силы и связи для спасения дочери. В печатном повествовании дочери и в рассказе матери, приведенном в воспоминаниях, проходят имена министра-председателя, военного министра Верховского, морского министра адм. Вердеревского, финл. ген.-губ. Стаховича, тов. мин. вн. дел Салтыкова, председателя Совета Чхеидзе, лидера эсеров Чернова, кн. Львова, Родзянко и др. Все они или действуют формально (кто и не отвечает), или бессильны помочь в «безвыходном положении». Приезжают в Гельсингфорс безрезультатно из Петербурга и представители советского центра Каплан, Соколов, Иоффе. Тогда по совету доктора Манухина обращаются к большевикам. Восходящая большевистская звезда – Троцкий, в предкорниловские дни бывший в «Крестах», уже председатель петроградского Совета. Достаточно было его телеграммы, чтобы «узники Врем. Правительства» были немедленно направлены из Свеаборга в Петербург. Вырубова попадает прямо в Смольный и освобождается Каменевым. Официальные органы правосудия во всем этом повествовании отсутствуют. Эта, быть может, вынужденная «летаргия правосудия» – действительно знамение времени.
28 августа сам Стааль заявлял московским журналистам, что арестованные властями фрейлина Хитрово, ее мать и заведующий архивом Имп. Двора Кологривов являются «жертвами» вольноопределяющегося Скакунова, представителя организации, созданной для похищения царской семьи.
Выяснилось, в конце концов, что это все письма сестер милосердия, работавших в госпиталях с членами царской семьи.
Следовательно, отпадает утверждение, что Хитрово была арестована по требованию, «солдатского комитета» (утверждение Булыгина, принимавшего участие в расследовании в Сибири дела об убийстве царской семьи).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу