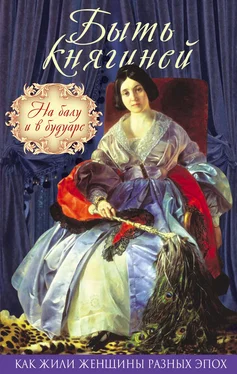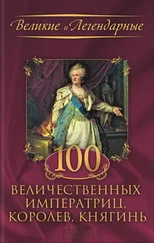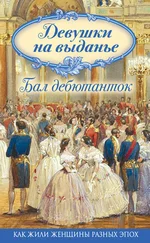Пресытившись светской жизнью, княгиня Волконская, удалившись от света и двора, после короткой поездки в 1822 г. в Италию занялась воспитанием сына и изучением русского языка, истории, этнографии и археологии России. Ее научная работа была отрицательно воспринята в высшем обществе столицы, и потому она в конце 1824 года переехала в Москву, в дом своей мачехи княгини А. Г. Белосельской, урожд. Козицкой, на Тверской, и дом этот скоро стал центром умственной и артистической жизни «грибоедовской Москвы». Московский дом З. А. Волконской на Тверской улице, хотя и перестроенный, существует и известен под старым названием «Елисеевский магазин». Красота, ум и образование княгини, ее чудный контральтовый голос и особый, присущей ей дар привлекать к себе сердца собирал на ее музыкально-литературные вечера и театральные представления не только московскую знать, но и профессоров, художников и музыкантов.
В 1825 году Волконская стала членом московского Общества истории и древностей российских, пожертвовала свою библиотеку Московскому обществу испытателей природы.
В ее салоне собирались многие известные писатели: Пушкин, Баратынский, Мицкевич, Веневитинов, Девитте. Самой известной характеристикой Волконской и ее салона стала фраза П. А. Вяземского из письма А. И. Тургеневу, о «волшебном замке музыкальной феи», где «мысли, чувства, разговор, движения – все было пение». Лучшие поэты посвящали ей свои творения. Она и сама писала на русском, французском и итальянском языках, Пушкин именовал ее «царицей муз и красоты», также ее называли «Северной Коринною».
Вяземский вспоминает, как Пушкин впервые появился в салоне Волконской и был очарован: она спела для Пушкина его элегию «Погасло дневное светило», положенную на музыку композитором Геништою. «Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства, – писал впоследствии Вяземский. – По обыкновению краска вспыхивала на лице его. В нем этот признак сильной впечатлительности был несомненное выражение всякого потрясающего ощущения».
Страстно влюблен был в нее молодой, рано умерший поэт Д. В. Веневитинов, перед отъездом его в Петербург, где он вскоре скончался, княгиня подарила бронзовый перстень, найденный при раскопках Геркуланума, – с ним поэт по его желанию, выраженному в стихах, и был похоронен (эксгумирован советской властью, перстень теперь хранится в фондах Литературного музея).
«Эта замечательная женщина, – пишет современник, – с остатками красоты и на склоне лет, писала и прозою, и стихами. Все дышало грацией и поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По ее аристократическим связям собиралось в ее доме самое блестящее общество первопрестольной столицы; литераторы и художники обращались к ней как бы к некоторому меценату. Страстная любительница музыки, она устроила у себя не только концерты, но и итальянскую оперу и являлась сама на сцене в роли Танкреда, поражая всех ловкою игрою и чудным голосом: трудно было найти равный ей контральто. В великолепных залах Белосельского дома оперы живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму, и каждое представление обставлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы. Тут же, в этих салонах, можно было встретить и все, что только было именитого на русском Парнасе».
В салоне Волконской с Адамом Мицкевичем познакомилась Каролина Павлова (а в ее же итальянском салоне – Юлия Самойлова с Карлом Брюлловым).
После восстания декабристов положение Волконской осложнилось. В 1826 году Зинаида Волконская устроила проводы в Сибирь жен декабристов – Е. И. Трубецкой и М. Н. Волконской (жены брата Никиты Волконского, ее мужа), чем вызвала неудовольствие властей. Над Волконской был установлен тайный надзор полиции. В августе 1826 года директор канцелярии фон Фок докладывал шефу жандармов:
«Между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство – княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг».
В то же время она под влиянием иезуитов перешла в католичество (была прихожанкой храма св. Екатерины в Петербурге) и вслед за этим получила от императора Николая Павловича разрешение отправиться за границу; имение ее было переведено на имя сына.
Взяв с собой сына и пригласив воспитателем к нему профессора С. П. Шевырева, княгиня в 1829 году поселилась в Риме, в купленной ею вилле близ площади Иоанна Латеранского. С этой поры она лишь два раза побывала на родине (в 1836 и 1840 гг.) для свидания с сыном и мужем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу