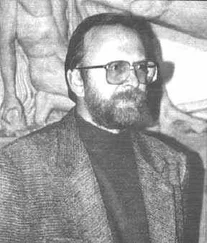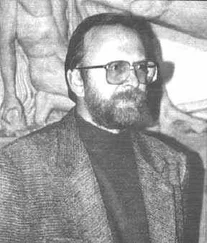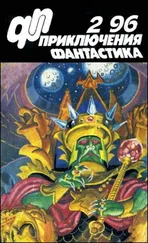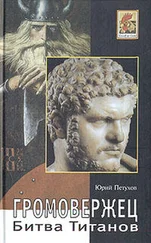Теоним состоит из двух частей: "Ма" – "мать" и "кошь" – "жребий, участь". В этом случае Макошь – "мать жребия", "мать удачи, доли" или даже "мать судьбы".
Но нам представляется, что образ значительно глубже и емче. Во всяком случае, в своей первооснове. Наверняка в нем заключается понятие о Матери всего сущего – и богов, и земли, и людей, и животных – всего, ибо это общий для индоевропейцев образ Ма-дивии – Материнского Божества. Только такая роль могла обеспечить Макоши место в продуманном языческом Пантеоне, где не предполагалось "ячеек" для "домовиков" и "домовух", бесе-нят и ведьмочек, "попутников" и "негодников".
С полным основанием мы можем считать Макошь эволюционированным образом Праматери, восходящим, по меньшей мере, к Рожаницам, а точнее, к Рожани-це-матери (их было две: мать и дочь-Лада и Леля, Лето и Артемида и т. д.). И здесь мы сразу получаем, что Лада, Рожаница-мать, Ма-дивия, Макошь – это, по всей видимости, разные названия одной Богини-матери, и притом, возможно, разные ее ипостаси. Но мы не будем углубляться в проблему Изначального женского божества, Праматери, ибо она неисчерпаема и требует отдельного объемного исследования. С нас хватит пока общего представления.
Попутно следует сказать, что великие государственные деятели Руси, ее устроители заслуживают более уважительного отношения с нашей стороны. Предполагая, что личность, сумевшая сплотить множество племен-этносов – союзов суперсоюзов племен, может по своей прихоти заставить весь "честный люд" в государстве почитать "собачку" или неведомую "иранскую птичку" и поклоняться им, мы тем самым унижаем и очерняем эту личность. И в первую очередь унижаем себя, показывая таким подходом крайнюю поверхностность суждений. Впрочем, "гипотезы" об "иранских птичках" высказывались первоначально в 30-х гг. нашего столетия. Они не нуждались бы в комментариях, если бы не продолжали кочевать из издания в издание, несмотря на то, что, казалось бы, "эпоха Покровского и его школы" давно миновала, оставив после себя зияющие пустоты, искореженную, полувытравленную память и руины.
Каждому божеству Владимирова Пантеона соответствовал свой день недели, причем, не всегда он совпадал с "порядковым номером" в общем ряду. Так, у Перуна, разумеется, был четверг, у Хорса – понедельник, у Дажьбога – воскресенье, у Стрибога – вторник, у Семаргла-Руевита – суббота, а у Макоши -целых два дня: среда и пятница. Насколько естественным было это распределение, нам судить трудно.
Таков был на 980 г. от Рождества Христова первый ряд языческих русских богов. Входил в него и Велес-Волос. Но ему положено было стоять как богу народа, близкого к земле, да и самому к ней близкому, в самом низу, никак не "на холме". О Велесе мы говорили много. Добавим лишь, что и со сменой религий ему стало не лучше, вернее, его прообразу – медведю. Святой Егорий, как называли его в народе, тот самый, что взял на себя обязанности Перуна после христианизации, сразу вошел в фольклор как защитник скота от медведя. Основной миф остался каким и был, только теперь Егорий-Перун воевал с медведем-волосом. Имя Егория вошло во множество заговоров, какими пытались защищать коров от медведя. Такие вещи не бывают случайными.
Итак, с первым рядом богов мы разобрались, более или менее. Переходя ко второму ряду, необходимо упомянуть, что славяне-язычники, как писали летописцы, поклонялись сначала упырям и берегиням, потом им на смену пришли Род и рожаницы и только после этого все остальные боги-кумиры. В таком трехфазном членении мифогенезиса есть своя логика. Но мы не будем специально касаться упырей, берегинь. Рода, рожаниц и пр. Отметим лишь первостепенную важность многоликого божества Рода, чье имя отразилось в таких привычных для нас словах, как "природа", "родной", "родиться", "родичи", "народ", "родина" и многих других. Случайный божок не смог бы оказать на язык подобного воздействия.
Характерно и следующее явление: верховный бог всегда в единственном числе и мужского рода, а сопутствуют ему божества женского рода, их двое или несколько. Например, Див – дивы (девы). Суд – суденицы. Род – рожаницы. Исходя из такого положения, наверное, можно себе представить, что и берегиням предшествовал какой-то бог – предположим, Оберег. Выводить берегинь от слова "берег (реки)" не следует. Ведь если бы работала такая схема, то мы бы знали сейчас и "рощинь" (от "священных рощ"), и "небесынь", и "землинь", и "ду-бынь-деревинь" (от "дуба", "священного дерева") и др. Однако мы таковых искусственных созданий не знаем.
Читать дальше