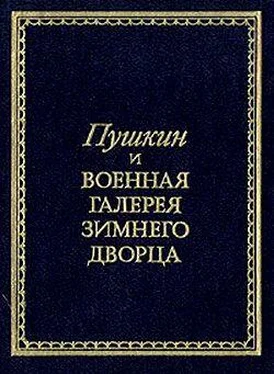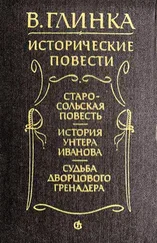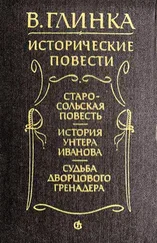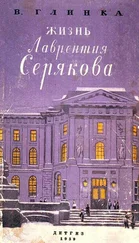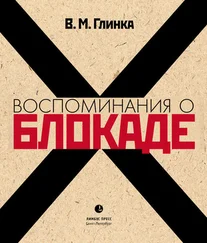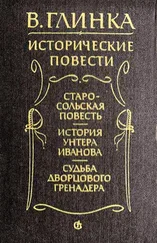В этой статье редактор «Отечественных записок» не решился прямо высказаться против выбора двора и ограничился приведенными здесь критическими замечаниями. Но в другой статье, напечатанной в том же выпуске журнала, читатель прочел дышащие горечью строки, осуждавшие предпочтение, оказываемое иностранцам, и едва ли направленные в иной адрес: «Главной препоной нашим артистам служит… остаток жалкого предубеждения нашего в пользу иностранцев, предубеждения столь сильного, что оно затмевает самое знание живописи. Достаточно быть иностранцем и приехать из Парижа, Вены, Берлина, чтобы обирать по произволу деньги… Он не имеет нужды в таланте, превосходящем таланты отечественных художников… Надобно, однако, отдать справедливость, что иностранные артисты решительно берут верх над русскими в особенной способности хорошо выставлять свой талант».
Как известно, деятельность Свиньина-журналиста в целом справедливо критиковалась еще передовыми его современниками, но его отношение к изобразительному искусству, нам кажется, заслуживает иной оценки. Неутомимый собиратель произведений русской живописи и памятников отечественной старины, Свинь-ин на страницах своего журнала впервые знакомил широкую публику с доступными только немногим собраниями произведений искусства, принадлежавшими частным лицам, освещал выставки Академии художеств, особенно внимательно относясь к произведениям русских живописцев, рассказывал о памятниках русского искусства, находящихся в провинции, выявлял таланты из народа.
Порой преувеличивая способности открытых им «самородков» – Слепушкина, Гребенщикова, Власова и других, П. П. Свиньин, однако, сумел по достоинству оценить дарование братьев Чернецовых, которых заботливо и бескорыстно опекал. Он же безошибочно определил творческие возможности В. А. Тропинина – тогда еще малоизвестного крепостного портретиста. С 1820 года Свиньин стал деятельным членом только что основанного Общества поощрения художников, сыгравшего – особенно в первые десятилетия своего существования – столь положительную роль в развитии и популяризации русского искусства.
Вероятно, если бы Доу ограничил свою деятельность в Петербурге исполнением портретов для Военной галереи и ролью модного портретиста высшего общества, подобного многим до и после него приезжавшим в Россию иностранным художникам, Свиньин не пошел бы дальше цитированных замечаний о преклонении русской аристократии перед всем иностранным и о живописи Доу, казавшейся редактору «Отечественных записок» эскизной и торопливой. Но предпринимательские замашки английского художника, его безудержное стремление к наживе и эксплуатация труда русских живописцев нашли в Свиньине сурового обвинителя, терпеливо собиравшего материалы, чтобы выступить с ними, когда выдастся благоприятный момент.
Доу продолжал изыскивать все новые пути для умножения своих доходов. Он уже не довольствовался барышами от продажи гравюр и бесчисленных живописных копий со своих работ. Мастерская на Дворцовой площади пополняется художниками Г. Гейтманом и А. Тоном, которые репродуцируют работы Доу литографией – способом, более скорым для выполнения и более дешевым, чем гравюры. Сначала это было только расширение «торгового ассортимента». Но через некоторое время мастерская выполнила литографскую репродукцию большого формата с портрета Александра I в рост Пропитанную лаком и наклеенную лицевой стороной на холст (при этом штрихи и другие особенности литографии становились невидимыми) репродукцию можно было расписать масляными красками и продавать за живописное произведение, что являлось уже прямым мошенничеством.
Смерть Александра I осенью 1825 года не изменила привилегированного положения Доу, перед которым открылась новая «золотая жила». Правительственные учреждения спешили заказывать ему портреты нового царя. Одно только Морское ведомство пожелало иметь тридцать больших портретов, которые за месяц написал Поляков.
Притоку подобных заказов, несомненно, помогала велеречивая реклама «Северной пчелы». Описывая в августе 1826 года посещение мастерской Доу и расхвалив портрет нового царя, Фаддей Булгарин писал: «Художник получил уже множество требований на оный из разных мест от Сибири до Лондона и Парижа. Между прочим, герцог Девонширский пожелал украсить им один из дворцов своих…» А через полгода в той же «Северной пчеле» было помещено объявление: «Желая, чтобы значительная часть верноподданных могла насладиться верным изображением своего возлюбленного монарха, г. Дов снял с подлинной картины самые сходные копии и решился распространять оные по всей обширной империи, доставляя по требованию не только в иногородние присутственные места, но и частным лицам». Можем ли мы, читая эти елейные строки, сомневаться в том, кто «снимал самые сходные копии» в таком количестве?
Читать дальше