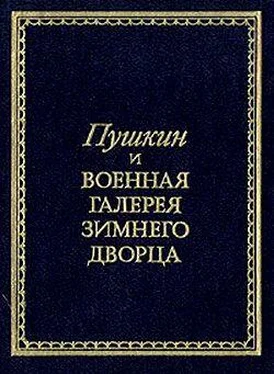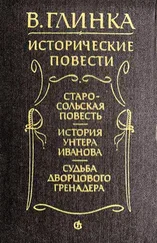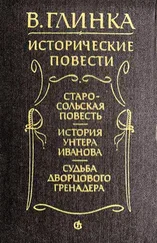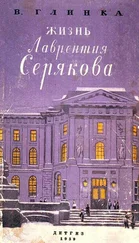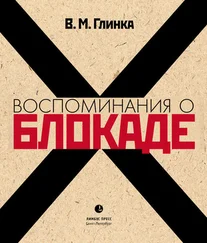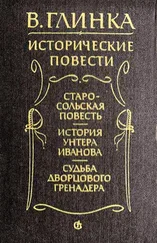Да, именно так, для создания каждого портрета требовалось особое разрешение или, вернее, утверждение царя. Мы уже упомянули, что докладывал Александру I о списках генералов, чьи портреты предполагалось писать для галереи, Аракчеев. Этот временщик, сдав в 1810 году пост военного министра Барклаю-де-Толли и получив новое назначение – председателя Военного департамента Государственного совета, оставался членом Комитета министров, которому и докладывал об утвержденных царем списках. Мы не встретили в архивных документах указания на случай, когда бы Комитет министров «отвел» кого-то, уже утвержденного царем. Однако далеко не все, внесенные Инспекторским департаментом в списки, утверждались Александром I, почти из каждого списка кто-то исключался по воле царя. Так случилось с генералами Пассеком, Мусиным-Пушкиным, Падейским, Родионовым, Красновым, Власовым, Вольцогеном и рядом других. Иногда «отклонение» сопровождалось мотивировкой. О Власове сказано: «Находился под следствием», о Вольцогене: «Как находящийся на иностранной службе». Чаще же встречается пометка: «Государь не соизволил на помещение в галерею». Это, например, сказано о любимце Суворова генерале И. К. Краснове, умершем от раны, полученной в канун Бородинского сражения. Больше повезло генералу О. В. Иловайскому (Иловайскому 10-му). На его письме из Новочеркасска, где он сообщает, что «полагает прибыть в Петербург по сдаче отправляемой ноне по войску должности», стоит резкая резолюция: «Не было повеления приезжать». Однако, очевидно, позже разрешение было дано, так как в галерее имеется портрет этого генерала с подписью Доу и пометкой: «Painted from nature».
Наконец, и списки, подаваемые Главным штабом Аракчееву, не обходились без пропусков имен порой весьма известных генералов, особенно если они были убиты на войне или скончались после нее, но до начала составления списков. В 1824 году в числе заказанных Доу портретов не значились имена таких известных военачальников, как К. Ф. Багговут, убитый при Тарутине, П. А. Строганов, умерший в 1817 году, и другие, правда позже все же появившиеся в галерее. Но и после открытия в ней не оказалось портретов М. М. Бороздина, В. А. Сысоева, Е. К. Криштофовича, И. А. Баумгартена, П. С. Лошкарева и других, что весьма удивляло современников. В середине XIX века военный историк генерал А. В. Висковатов составил список из 79 лиц, чьи портреты имели бы неоспоримое право быть помещенными в галерею, но в нее не попали по непонятным причинам.
Но вернемся к деятельности Доу. Сообщение «Русского инвалида», разошедшееся по всей России, несомненно, подействовало. После этой публикации резко увеличилось поступление в Главный штаб или непосредственно на имя художника портретов, которые требовалось скопировать в принятом для галереи формате. И не случайно как раз в это время в доме Буланта появляются два молодых помощника Доу – Александр Поляков и Василий (он же – Вильгельм) Голике. На них-то корыстолюбивый англичанин и переложил эту работу, в редких случаях только «подправляя» выполненные уже копии, касаясь их несколькими взмахами своей искусной кисти, но неукоснительно получая за каждый портрет установленный гонорар в тысячу рублей.
Рисковал ли Доу при этом? Нет или почти нет. Вероятно, расчет его был такой: раз человек не приехал позировать, то много шансов, что он вообще не появится в Петербурге, а следовательно, и не предъявит претензий к посредственно написанному портрету. Следует также учесть, что сообразно чинам, которые изображаемые лица имели в 1812–1814 годах, а не во время создания галереи, портреты должны были разместиться в ней так, чтобы весь нижний ряд, наиболее удобный для обозрения, и значительную часть второго занимал высший генералитет – семнадцать генералов от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии и семьдесят девять генерал-лейтенантов. Для оставшейся же части второго и для трех верхних рядов, плохо видных зрителю, предназначались портреты генерал-майоров. К последней категории и относилась большая часть копированных в мастерской Доу портретов. Разумеется, в тех случаях, когда лицо, бывшее в 1812–1814 годах всего генерал-майором, ко времени создания галереи заняло видное положение – получило звание генерал-адъютанта царя или руководящее место в каком-либо ведомстве, как было с Закревским, Бенкендорфом, Левашовым, Виттом и другими, или если оно принадлежало к высшей аристократии, – в этих случаях Доу писал портрет сам, не жалея труда и таланта. И место портрета оказывалось во втором ряду, на виду у посетителей галереи.
Читать дальше