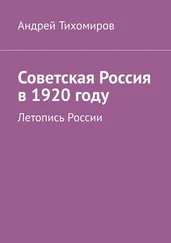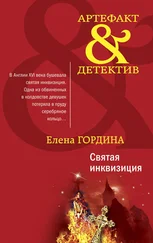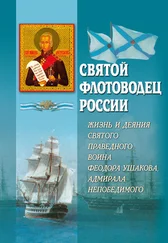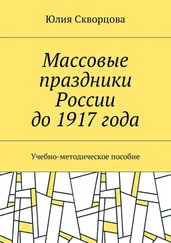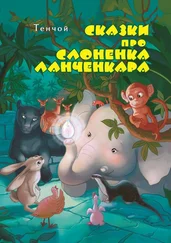«И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с ним (курсив Ф.Д. — А.Б.), вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобой, а с ним».
Думается, авторитет Достоевского был и остается настолько мощным, что до сих пор не хватало духу говорить об этом аспекте «великого печальника земли русской». Как бы там ни было, братья Карамазовы ведут спор вовсе не о католицизме, а о русских болях, и это «исправление» подвига Христа мучило применительно к родной земле «русских мальчиков». Примечательна концовка этого жаркого спора в трактире. У Достоевского продумано каждое слово, и если он здесь что–то проговаривает как бы вскользь, то это обращение к читателю делать выводы самому.
«— Да стой, стой, — смеялся Иван, — как ты разгорячился. Фантазия говоришь ты, пусть! Конечно, фантазия. Но позволь, однако: неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ? Уж не отец ли Паисий так тебя учит?
— Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что–то вроде даже твоего… но, конечно, не то, совсем не то, — спохватился вдруг Алеша.
— Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое: «совсем не то». Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ?..»
Надо ли доказывать очевидное: Достоевский печалился не о католическом мире, а о своем, православном.
Новоявленные национал–патриоты утверждают, что русские писатели были подлинными детьми родной матери–церкви и в помыслах не имели ничего негативного. Как видно из приведенных немногочисленных цитат, наши писатели видели проблемы официальной Церкви, но в произведениях своих не всегда могли сказать то, что хотели. Если же и пытались это сделать, то прибегали к иносказаниям. Или же — чаще всего — молчали, что уж, конечно, лучше, чем фальшь.
Да не подумает читатель, что книга эта — эмоциональный памфлет. Мы предоставим в ней место голосам былого, историческому материалу. Мы увидим, что слово «инквизиция» звучало тогда из самых разных уст, и хорошо, что не мы первые его произнесли, дабы не быть обвиненными в клевете. Надежнее было бы обо всем нижеследующем промолчать, но кровь и слезы прадедов не для того лились по русской земле, чтобы и до сегодняшнего дня молчать о том, что представляла собой государственная религия.
Отмена крепостного права повлекла за собой изменения в самых различных слоях российского общества. Не оставалась неизменной и жизнь православной Церкви, хотя это была твердыня, сцементированная канонами, вековыми традициями и жесткой иерархической подчиненностью. Если говорить о кризисе в социально–политической области, о брожении умов в многомиллионной народной массе, то невозможно не обратить внимание на состояние православной Церкви, ибо люди, занимались ли они ремеслом, торговлей или сельскохозяйственным трудом, политикой или искусствами, — все они находились прежде всего в лоне православной Церкви, а если кто и не входил в ее паству, все равно так или иначе был от нее в зависимости.
Конечно, первенствующим фактором являлось освобождение крестьян от крепостного права (точнее — бесправия). Почему–то в наше время не считается уместным говорить, что рабство это из века в век освящалось и поддерживалось правящей Церковью, и к стыду ее — освобождение крестьян подготавливалось многолетним набатом призыва к совести людей не из священства. На тему крестьянской реформы 1861 г. было написано много, и можно лишь повторить слова поэта: «народ освобожден, но счастлив ли народ?». Рабы, выпущенные на волю без земли, обреченные искать заработок, где придется, без социальной поддержки…
Вторым и не менее важным фактором следует назвать духовное обнищание. Что бы ни твердили нынешние неославянофилы о «святой Руси», какую духовность можно было ожидать от рабов? Отрадно сознавать, что на эту тему уже можно писать и в научных работах совершенно открыто, — ведь то, что ранее называлось «надстройкой», теперь вполне обоснованно именуют национальной идеей, духовными чаяниями. Причем признано — по крайней мере формально, — что неудовлетворение этих чаяний при накоплении критической массы может привести к социальным катаклизмам. Так вот, в пореформенный период духовное обнищание требовало компенсации. «Пробуждение самосознания этой массы, начало ее умственной жизни неминуемо связывается с коренной переоценкой всех утвердившихся в ней понятий и, конечно, прежде всего с проверкой ранее бессознательно воспринятых религиозных тезисов» [55] Мелъгунов С. П. Церковь и государство в России. М., 1907, с. 31.
.
Читать дальше


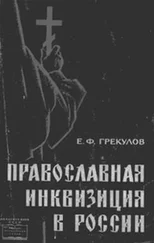
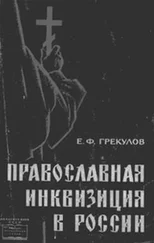
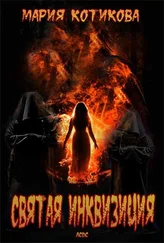
![Елена Гордина - Святая инквизиция [litres]](/books/388866/elena-gordina-svyataya-inkviziciya-litres-thumb.webp)