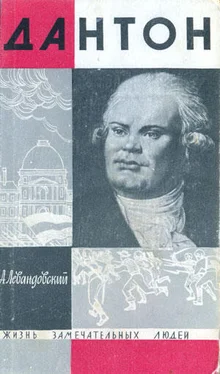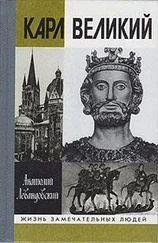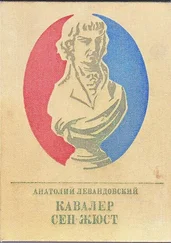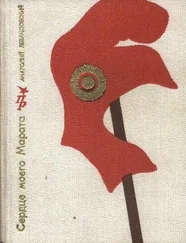Первый день процесса начался перекличкой обвиняемых.
Все они, четырнадцать человек, были на местах. На вопрос, сколько ему лет, Камилл Демулен ответил:
– Я в том же возрасте, в каком умер санкюлот Иисус: мне тридцать три года.
Дантон, когда его спросили об имени и месте жительства, гордо заявил:
– Моим жилищем скоро будет ничто ; имя же мое вы найдете в пантеоне истории. Народ всегда будет с уважением относиться к моей голове, пусть даже она падет под топором палача.
Секретарь суда приступил к чтению длинного доклада Амара по делу Ост-Индской компании. После доклада, занявшего несколько часов, заседание было закрыто.
Второй день, 14 жерминаля (3 апреля), обещал зрителям много интересного.
Прежде всего на скамье подсудимых появился новый обвиняемый. Это был генерал Вестерман, агент Дантона, замешанный во все интриги Дюмурье.
Вестерман настаивал, чтобы с него сняли допрос. Председатель Эрман, спешивший с делом Ост-Индской компании, ответил, что это формальность.
Дантон иронически подхватил слова Эрмана:
– Но ведь все мы и находимся здесь только ради формальности !
Послышался смех.
Председатель потребовал тишины, затем схватился за колокольчик.
Мог ли он заглушить голос Дантона?
– Разве ты не слышишь, что я звоню? – наконец возмутился Эрман.
– Человек, защищающий свою жизнь и честь, пренебрегает этим, – ответил трибун.
Шум не прекращался. Подсудимых охватило волнение.
– Пусть нам дадут только слово, – рычал Дантон, – я пристыжу вас всех! И если французский народ действительно таков, каким он должен быть, мне еще придется вымаливать у него прощение моим обвинителям.
– Да, нам нужно только слово! – вторил другу Камилл.
Дантон продолжал иронизировать:
– В настоящее время Барер – патриот, не правда ли? А Дантон – аристократ! – Он обернулся к присяжным: – Ведь я – создатель трибунала; стало быть, я понимаю толк в этом. – И, заметив Камбона на скамье для свидетелей: – А ты тоже считаешь нас заговорщиками? Смотрите, он смеется; он не верит. Запишите, что он смеялся!
С трудом восстановив тишину, Эрман вернул прения к финансовому заговору. Дал показания Камбон. Допросили Фабра, Шабо, Базира, Эро и д'Эспаньяка.
Дантон проявлял все признаки нетерпения. Он бросил Делакруа:
– Что за необходимость присутствовать в деле, только унижающем нас? Речь ведь идет о мошенничествах и кражах…
Наконец председатель обратился к Дантону.
Странное впечатление производит его защита. Во всяком случае, в том виде, в каком донесли ее нам протоколы Революционного трибунала.
Речь Дантона, если можно назвать речью несколько тирад, мало связанных между собой, отнюдь не была обстоятельным ответом на обвинения. По существу, он не опроверг ни одного из них – он их просто отринул.
Титан бушевал. В свое выступление он вложил все ярость и силу, на какие был способен. Он дерзил, угрожал, насмехался. Тщетно Эрман прерывал его, предлагая вести себя более сдержанно и не нарушать законных рамок защиты. Сквозь раскрытые окна мощный голос Дантона был слышен далеко на улице. И что ему было до призывов председателя, подкрепляемых бесполезным звоном колокольчика? Разве к судьям он обращался?
Трибун снова говорил с народом. В последний раз он апеллировал к владыке, который вознес его на вершину революции, который прежде служил ему верной опорой.
Услышит ли, поймет ли его народ?
И станет ли на его защиту?
Вот два вопроса, которые волновали Жоржа Дантона в течение всей его речи. И поэтому речь превратилась в беспорядочный поток самовосхвалений и призывов.
– Мой голос, столько раз звучавший для блага народа, для защиты и поддержки его интересов, теперь без труда опровергнет клевету.
Посмеют ли трусы, оклеветавшие меня, бросить мне в лицо свои обвинения?.. Пусть они покажутся, и я тотчас покрою их позором и бесчестьем, заслуженным ими!.. Вот моя голова: она отвечает за все…
…Личная дерзость, конечно, достойна порицания, и меня в ней никогда не имели оснований упрекать; но дерзость национальная, пример которой я столько раз подавал и при помощи которой столько раз служил народному благу, – этот род дерзости не только допустим в революции, он даже необходим, и я горжусь им. Когда я вижу, что меня так жестоко, так несправедливо обвиняют, могу ли я подавить чувство негодования, которое кипит во мне против моих клеветников? Разве от такого революционера, как я, можно ждать хладнокровной защиты?
Читать дальше