Пушкин сказал Соллогубу, когда объяснение между ними закончилось: "Неужели вы думаете, что мне весело стреляться?.. Да что делать? J'ai la malheur d'etre un homme publique et vous savez que c'est pire que d'efre une femme publique". [38] [39]Шутка была горькой. За ней многое скрывалось. Из-за того он и бился, чтобы не дать низвести высокое звание поэта до подобного уровня. (27)
Важно отметить следующее: ни в одном из февральских инцидентов Пушкин не стремился во что бы то ни стало довести дело до поединка. Поэт твердо настаивал лишь на формальных объяснениях. Он использовал статус дворянской чести, чтобы оградить себя от клеветы и оскорблений.
Однако самый факт вызова — или ситуации, близкой к вызову, — говорит о том, что Пушкин был доведен до крайности. В те дни поэт пережил момент чрезвычайного душевного напряжения. Он был настроен очень решительно и внутренне готов был бросить вызов судьбе и вступить "в игру со смертью". [40]
Нельзя не вспомнить при этом, что в пушкинских замыслах последних лет возникает настойчиво повторяющийся мотив "желанной смерти" (назовем хотя бы такие произведения, как «Полководец», или незавершенные фрагменты: "Мы проводили вечер на даче…", повесть о Петронии, "Марья Шоннинг"). Общей особенностью всех этих замыслов является психологическая настроенность героя — человека, полного сил, но избирающего смерть, потому что, как писала А. А. Ахматова, для него "остаться — было бы равносильно потере уважения к самому себе {…} или подчинению воле тирана" [41]
Ни в одном из этих произведений нет прямой авторской исповеди, но они так или иначе связаны с какими-то очень важными глубинными пластами душевной жизни поэта. В них отразилось то, что было доминирующим в настроении Пушкина последних лет, — его внутренняя готовность к самому крутому повороту в своей судьбе ради спасения чести и человеческого достоинства.
Эта психологическая настроенность сложилась у Пушкина задолго до истории с Дантесом. Она была реакцией на то, что теснило его со всех сторон, ответом на все усиливающийся нажим власти, предпринявшей в это время новые попытки смирить и обуздать его.
3
В январе — феврале 1836 г. Пушкин был очень занят своим журналом и "Историей Петра". Поэт рассчитывал в конце февраля, когда первый том «Современника» будет сдан в печать, уехать в Москву для работы в архивах. Но все сложилось иначе, чем он предполагал. Обострилась (28) болезнь его матери. Видя ее состояние, Пушкин не решился уехать из Петербурга. Каждый день, хоть и ненадолго, он появлялся у родителей. "Счастье, что Александр не уехал, как собирался…", — писала 11 марта Ольга Сергеевна. [42]
Мать поэта скончалась 29 марта. Все печальные хлопоты Пушкин взял на себя. По его настоянию Надежду Осиповну похоронили в стенах Святогорского монастыря, рядом с могилами его деда Осипа Абрамовича Ганнибала и бабушки Марии Алексеевны. Один из всей семьи, Пушкин провожал гроб с телом матери в Михайловское.
Тогда же он отметил место — рядом с могилой матери — для себя. Кому-то из близких поэт сообщил об этом. По словам П. А. Плетнева, в те дни Пушкин, "как бы предчувствуя близость кончины своей {…} назначил подле могилы ее и себе место, сделавши за него вклад в монастырскую кассу". [43]Об этом же сообщает и П. В. Анненков: "Александр Сергеевич положил тело ее в Святогорском Успенском монастыре и тут же сделал вклад обители на собственную свою могилу". [44]
Плетнев говорит: "как бы предчувствуя…". Но хорошо известно, что о месте своего последнего успокоения поэт думал давно, задолго до того дня, когда он сделал свой вклад в казну Святогорского монастыря. Ему было тридцать лет, когда он сказал: "День каждый, каждую годину Привык я думой провождать, Грядущей смерти годовщину Меж их стараясь угадать…". И уже тогда, будучи в расцвете своих духовных и телесных сил, Пушкин отчетливо выразил свою волю: "И хоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать, Но ближе к милому пределу Мне все б хотелось почивать…" (III, 195).
В последние годы жизнь его сложилась так, что он чувствовал себя не властным даже в этом выборе. "Меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку", — читаем мы в одном из пушкинских писем 1834 г. (XV, 167). Поэт как будто предугадывал окрик Бенкендорфа, раздавшийся в январе 1837 г.: "Почему положен в гроб не в мундире?!". Мысль о том, что его могут похоронить в камер-юнкерском мундире ("полосатом кафтане") приводила Пушкина в бешенство.
Читать дальше

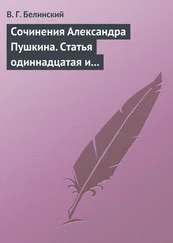
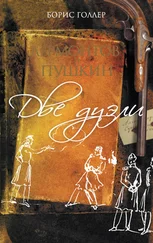
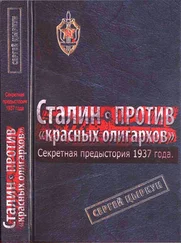
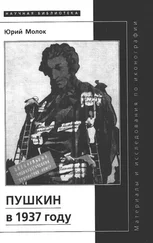


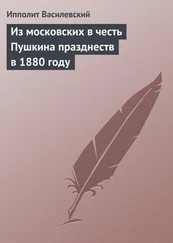
![Александр Александров - Известный аноним [Последняя дуэль А. С. Пушкина]](/books/402150/aleksandr-aleksandrov-izvestnyj-anonim-poslednyaya-thumb.webp)



