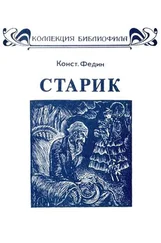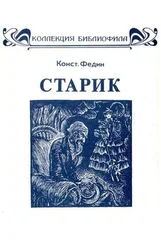- Как же вы говорите - ничего нового? - недовольно упрекнул прокурор, прислушиваясь к смеху.
- Ничего мне достоверно известного, ваше превосходительство. Скажешь, а потом не подтвердится. Получится - Ознобишин наболтал. Ведь до сего дня мне еще не дано ознакомиться с протоколами дознания.
- Да, да, скажу, чтобы завтра же мне доложили.
Прокурор укоризненно покачал головой и покосился через открытую дверь в комнаты, где все еще смеялись.
- И чтобы вас допустили к ознакомлению с делом. Нужно накоплять опыт. Я вас понимаю. Знакомьтесь и потом держите меня в курсе. С тех пор, дорогой мой, как мне прописали очки, чтение дел стало для меня гораздо труднее. Надену очки - клонит ко сну, представьте себе. Сниму - ничего не вижу.
- Зрение, ваше превосходительство, - проникновенно сказал Ознобишин.
- Да, - подтвердил прокурор. - Он ведь модернист?
- Пастухов? - догадался Ознобишин. - Ну конечно, модернист.
- В газетах его хвалят. А отец у него был бестолковый. Все, знаете ли, проектировал. Долгов наделал... Если сын в него, можно думать - сбился. И потом вполне естественно ожидать от литератора... Вы как, читаете модернистов?
- Пробовал, ваше превосходительство. Все как-то у них... на скользких намеках. Иногда даже неприлично.
- Да, они позволяют себе... Однако у некоторых получается увлекательно и, знаете, красочно. Я как-то, еще до очков, прочитал роман... не могу вспомнить автора. Из новых. Но название запомнил: "Девственность", знаете ли. Очень смело. И легко, с интересом читается. Там, видите ли, одна девушка...
В это время на террасу вышла развеселившаяся племянница прокурора с приглашением к ужину, и прокурор направился в комнаты, расспрашивая, над чем же все так весело смеялись.
Сидя, как обычно, рядом с дамами, любезно, слегка неуклюже передавая им своими маленькими ручками блюда и обмениваясь ни к чему не обязывающими уместными словами, Ознобишин испытывал приятно волнующее чувство. Он надеялся, что после удачного разговора на террасе его отношения с товарищем прокурора, наблюдавшим за политическими делами, примут ту короткую доступность, которую все не удавалось установить. Товарищу прокурора не нравилось молодое рвение кандидата. Частенько осаживая Ознобишина, он поучал, что для успешного прохождения службы впереди любознательности должна идти выдержка, и дальше подборки маловажных материалов ничем его не занимал. Теперь, когда камере прокурора палаты предстояло принять к производству нашумевшее в городе дело, Ознобишин рассчитывал достичь по возможности больше и знакомством с процедурой дознания, и помощью в составлении обвинительного акта. Участие в этом деле рисовалось ему началом весьма значительного, даже, может быть, решающего движения в карьере, и он жалел, что не нашел случая поговорить с прокурором раньше, и радовался, что наконец поговорил. Как большинство молодых людей, он был тревожим неудовлетворенным желанием что-то видоизменять, совершенствовать и думал, что все удивятся, когда обнаружат, как много он открыл такого, чего прежде никто не примечал. Он нисколько не хотел поколебать машину судопроизводства, наоборот - ему представлялось, что, когда его подпустят к ней ближе, она заиграет своими хитрыми деталями так, что даже старые чиновники ахнут и возбоготворят ее еще больше. Главное, о чем он мечтал, это увидеть живых обвиняемых, и болезненно досадовал, что товарищ прокурора не хотел замечать его интереса к дознанию.
Допросы производились уже второй месяц. Через руки жандармского подполковника Полотенцева прошло немало людей, и следствие обрастало подробностями, как днище корабля ракушками.
Был вызван в жандармское полицейское управление и Меркурий Авдеевич Мешков.
Он явился расчесанный, степенно приодетый, как к заутрене. Вопросы, заданные ему первоначально и касавшиеся установления его личности, были нетрудными. Он отвечал готовно, и вся слаженность и удобство формы усыпили его страх, тем более что Полотенцев все время будто извинялся за невольно причиненное утруждение.
Это был человек с выбритой до сияния продолговатой головой и с математической шишкой на затылке, с коротенькими ярко-желтыми ресничками, словно дублировавшими тонкую золотую оправу очков. Он отращивал длинные белые ногти и при письме упирался в бумагу мизинцем с особенно длинным и особенно белым ногтем. За работой он надевал китель без аксельбантов, и вид его был дорожным, как будто подполковник ехал в мягком купе и нечего было церемониться, - путь дальний, сидеть уютно, собеседники славные, вот-вот он раскроет чемодан и проговорит: "А ну-ка, заглянем, что нам упаковала в путь-дорогу наша дражайшая женушка".
Читать дальше