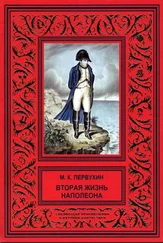Однако и Австрия усвоила подобную же тактику. Взгляды и поведение России точно так же во многом входили в ее расчеты. Под впечатлением Ваграма Австрия смирилась и просила пощады; теперь же, немного оправившись от удара, она сознавала, что далеко не в такой степени разбита, чтобы соглашаться на всякие условия. В замке Дотис, [164]куда укрылся двор, идея вести войну до последней крайности еще сохранила своих приверженцев. Император Франц не отказывался от мысли возобновить военные действия в том случае, если победитель слишком тягостным миром вздумает причинить Австрии смертельные увечья. Он охотнее предпочел бы с честью пасть с оружием в руках, чем подписать договор, который привел бы его монархию к бесславному и верному упадку. Для отчаянной борьбы он уповал на силу своей армии, на преданность подданных, и не совсем отчаивался во внешней поддержке. Он все еще вел переговоры с Пруссией [165]; рассчитывал на скорую диверсию англичан, которую они не прочь были сделать на Вальхерен, на не прекращающиеся военные действия в Испании, но, в особенности, его взоры обращались к России. Он старался проникнуть в это немое государство, уяснить себе тайну его намерений. Хотя Россия и объявила ему войну, но не вела ее. Следует ли, думал он, из такого двусмысленного поведения сделать вывод, что она искренне желает сохранения Австрии и неприкосновенности ее владений? Нельзя ли добиться, чтобы она яснее определила свои отношения, чтобы вмешалась хотя бы дипломатическим путем, ограничила требования победителя, пригрозив ему в противном случае совсем покинуть его? Пока Россия не снимет покрова с своих намерений, император Франц не хотел подписывать ни одного слишком тяжелого условия. Он решил, что прежде всего “нужно позондировать Россию и готовиться к новой борьбе [166]. 30 июля он написал Александру письмо и в нем между строк робко обратился к нему с мольбой. Он выразил надежду, даже уверенность, “что интересы Австрии не останутся навсегда чуждыми России” [167]. Если бы царь не захотел его понять, если бы он преклонился пред успехом и крепче приковал себя к победителю, тогда – и только тогда – настало бы время склонить голову и смириться. Пока же император Франц определил своим уполномоченным их роль и речь в следующих выражениях: “Уполномоченные постараются выиграть время до конца августа и воспользоваться этой отсрочкой, чтобы выяснить намерения Наполеона” [168].
Связанные одинаковыми предписаниями, уполномоченные той и другой стороны состязались в медлительности. Стараясь проникнуть в замыслы противной партии и в то же время остерегаясь как бы не выдать своих, они прикрывали свои намерения самой непроницаемой броней. Меттерних и Нугент решительно отвергали принцип uti possidetis, но заменить его каким-либо другим принципом не пожелали. Они требовали, чтобы инициативу взяла на себя Франция, чтобы она заговорила первая и определенно указала, какие земли она хочет удержать за собой. Шампаньи увертывался от этих требований, заводил не имеющие прямого отношения к делу разговоры, и переговоры велись день за днем, не давая определенного результата, церемонно и бесплодно [169].
Правда, вне заседаний языки немного развязывались, и между уполномоченными Австрии в манере держать себя сказывалась резкая разница. Барон Нугент, скорее, военный, чем дипломат, принимал желчный и резкий тон и был мелочно-обидчив. Меттерних, напротив, казался доверчивым, уступчивым и был крайне любезен. Он отнюдь не избегал случаев видеться и разговаривать частным образом с Шампаньи, и этот последний любезно доставлял ему желанные случаи. В ту эпоху, когда дипломатия не утратила еще добрых традиций восемнадцатого века, не было посредников, которые среди наиважнейших и мучительных прений не уделяли бы часть своего времени светским развлечениям. В Альтенбурге, в котором конгресс вызвал некоторое оживление, Шампаньи постарался собрать вокруг себя все, что мог доставить в деле светских ресурсов австрийский провинциальный город. Водворясь в стране по праву завоеваний, он старался сделать приятным пребывание в ней ее законным владельцам и любезно принимал их в их собственном доме. В замке, где он жил, он давал обеды, устраивал приемы. “Дамы надеются, что я доставлю им случай потанцевать, – писал он, – я не обману их ожиданий” [170]. Меттерних часто бывал на этих собраниях. Он пользовался там почетом и забывал на время свою роль побежденного. 15 августа, во время бала, данного французами по случаю чествования дня Святого Наполеона, он дошел до того, что провозгласил тост за мир, к великому негодованию своего коллеги, который не понимал и не извинял подобных слабостей. Однако, еще до этого Меттерних пояснил и пользовался всяким случаем указать, о каком мире он не прочь говорить. Это была не та – с таким бессердечием обсуждаемая – мировая сделка, не тот мир, какой император французов хотел подписать после долгого торга и который оставил бы после себя поводы к раздору: это был мир великодушный, который повлек бы за собой полное и совершенное восстановление прошлого, с прочным примирением, – одним словом, мир на почве союза, подобный тому миру, какой был заключен два года тому назад на берегах Немана.
Читать дальше