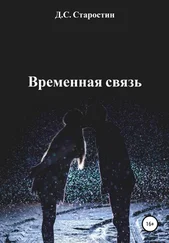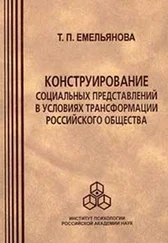Chapter three addresses records of court proceedings that had become a peculiarly interesting sort of documents since the middle of the seventh century and that filled an important gap that appeared when both narrative histories and hagiography stopped appearing as a result of the overall drop in literacy. These records were an offshoot of the imperial rescript and they conveyed to the conflicting parties the solutions found by the kings’ representatives and the king himself to the conflicts that had no precedent in Late Antique law. These court proceedings dealt with reshaping of the power balance in Neustria and they showed how different aristocratic groupings used appeals to the king to get a grip on those lands that lost their direct owners and that fell through the cracks of the Frankish and Gallo-Roman networks of authority. Although scholars have thought that these court proceeding, mostly favoring the monastery St-Denis, were “political” in the sense of favorite the key royal monastery, I suggest that even the most evident of them still showed that the merovingian court in the late period of the dynasty’s rule was the place of negotiation and incorporation of elites into the orbit of royal prestige. These documents suggest contrary to the image of the “weak rulers” the kings in this period were deemed to be peacemakers and rulers in the image of the emperor and that they were accorded the right to pronounce law. This prerogative, although derided by Einhard in the 830-s, meant a significant rise in prestige of the verovingian kings who had finally managed to move away from the military commander status and who added to their aristocratic standing (unstable and questioned by Gregory of Tours) the right to be considered worthy of law-giving, the status first accorded to Theodosius II by the Senate in 439.
* * *
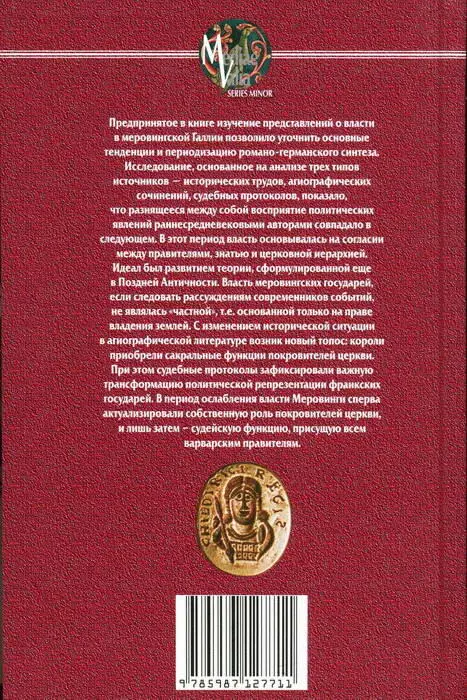
Тьерри считал, что в VI в. (т.е. в период, описываемый Григорием Турским) франкские короли хоть и относились со все возраставшим уважением к католическому епископату, но оставались по сути варварами и «язычниками». Взгляды Тьерри во многом развил и повторил один из представителей «малогерманской» партии. См.: Sybel H. von Entstehung des deutschen Kônigthums. Frankfurt am Main, 1881. В этой работе, выполненной в рамках концепции, заложенной Тьерри, отрицалось наличие какой-либо государственности у германцев. Отчасти противоположная точка зрения принадлежала Ф. Гизо: Guizot F. Récits historiques. Bielefeld, 1897. Ее отличие от взгляда Тьерри состояло в том, что он придавал большее значение цивилизаторской функции галло-римского епископата, и считал, что благодаря ему Хлодвиг и последующие меровингские короли стали заимствовать римскую культуру, пытаясь имитировать римские образцы в области представлений о власти.
Результатом стало появление в школьных учебниках всех стран карт, на которых стрелами были отмечены основные направления «военных кампаний» варваров.
Его точка зрения традиционно называется «романистской», хотя сам ученый отвергал такое определение собственных взглядов.
Но наиболее концентрированным (и в чем-то даже гипертрофированным) выражением этого тезиса явилась книга А. Пиренна: Pirenne H. Mahomet et Charlemagne. 2-е изд. Р., 1937. Необходимо отметить, что данная работа, сохранившаяся в виде черновиков, не была завершена автором при его жизни. Труд увидел свет благодаря усилиям одного из учеников, причем в процессе правки в текст вошли не только мысли и идеи, сформулированные Анри Пиренном в письменном виде, но и суждения, которые, как утверждал его ученик, произносились ученым устно в ходе личных бесед. В монографии показано, что приход варваров на территорию римской Галлии и Аквитании нисколько не изменил социально-экономическую ситуацию в том регионе, которая как была, так и осталась связана с Поздней Античностью по своему характеру.
Первопроходцем в этой области и создателем очень влиятельной историографической традиции (и школы) во Франции был Жорж Дюби, который постарался обосновать тезис Марка Блока на примере историко-правового исследования практики зависимости воинов от магнатов. См.: Duby G. Recherches sur l’évolution des institutions judicaires pendant le X et XI siècle dans le sud de la Bourgogne 1 // Le Moyen Âge. 1946. T. 52. № 2–4; Idem. Recherches sur l’évolution des institutions judicaires pendant le X et XI siecle dans le sud de la Bourgogne 2 // Le Moyen Âge. 1947. T. 53. № 1–2. Основным его трудом, эталоном для всех его последователей, стал: Idem. La société aux XI et XII siècles dans la région Mâconnaise. R, 1953.
Однако были в общем хоре ученых, придерживавшихся этой точки зрения, и другие голоса. Противоположную позицию имел, например, Мюррей (А.С. Murray), который в своем исследовании порядков наследования во Франкском королевстве показал, что в этой специфической области социально-экономических отношений можно скорее наблюдать «варваризацию», чем постепенную адаптацию к позднеантичной культуре. См.: Murray А.С. Germanic Kinship Structure: Studies in Law and Society in Antiquity and in the Early Middle Ages. Toronto, 1983.
Среди ученых XX в., разделявших эту точку зрения, назовем авторов фундаментального труда (Lot F., Pfister С., Ganshof F.L. Histoire du Moyen Âge. T. 1. R 319–325) и известнейшего из исследователей меровингской эпохи Е. Эвига (Ewig Е. Die frânkische Teilreiche im 7 Jahrhundert (613–714) // Spâtantikes und fränkisches Gallien: Gesammelte Schriften. Ostfildern, 1976. Bd. 1. S. 174). Среди отечественных медиевистов также можно заметить следование данной традиции, хотя и в опосредованном ключе. Так, в работе, посвященной раннесредневековой государственности, А.Р. Корсунский показал, что для указанного периода существовало то, что логично назвать «демократией знати» и что раннесредневековые королевства не были еще «государствами» в полном смысле слова. См.: Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963. С. 154, 162. Особенно важным для нас является тезис А.И. Неусыхина о том, что в раннесредневековый период общество было «дофеодальным», т.е. таким, в котором отсутствовали значительные классовые противоречия; большинство населения составляли свободные. См.: Неусыхин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному. (Тезисы доклада) // Средние века. 1968. Т. 31. С. 45–48, 59–63; Он же. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодальному // Вопросы истории. 1967. № 1. С. 75–87. Можно заметить, что хотя оба этих исследователя не дали точной периодизации времени существования «догосударственного», «дофеодального» этапа, но, судя по приводимым ими источникам, они относили его ко всей эпохе Меровингов в части своей аргументации, которая касалась Галлии.
Читать дальше
![Дмитрий Старостин Между Средиземноморьем и варварским пограничьем [Генезис и трансформация представлений о власти в королевстве франков] обложка книги](/books/30806/dmitrij-starostin-mezhdu-sredizemnomorem-i-varvars-cover.webp)
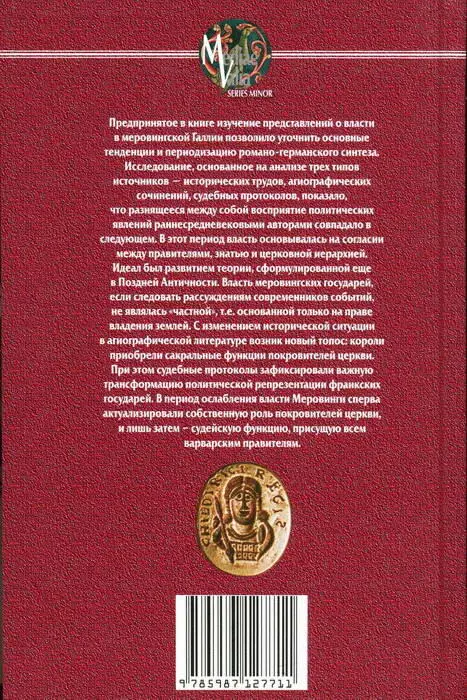



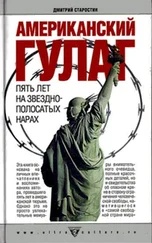

![Марк Блок - Короли-чудотворцы [очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии]](/books/420814/mark-blok-koroli-thumb.webp)