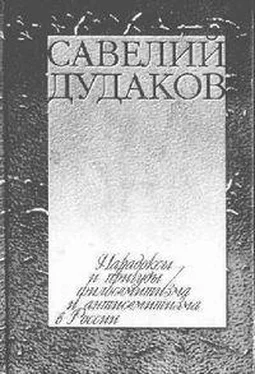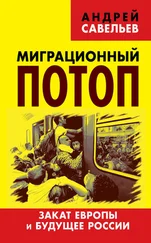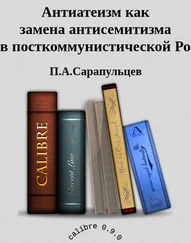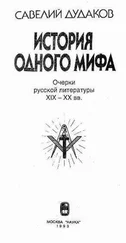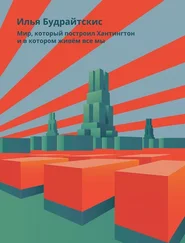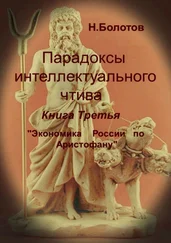Второй момент политический: это время действия пакта Риббентропа-Молотова.
Негоже хулить союзника. А так, пожурить немного… Ведь писал Александр Александрович после победы над Капабланкой: "Мастерство в нашей области есть просто пробный камень для несовершенства других" (Выделено Алехиным. – С. Д.).
Почему-то в обойму критики попал престарелый Якоб Мизес, яркий шахматист, любивший творчество Чигорина и ценимый самим Чигориным. И мастер, без амбиций.
Никогда не боролся за шахматную корону. Видимо, добавлен для счета. Вот что писал о нем Чигорин в 1907 г.: «Мизес – один из немногих постоянных участников международных турниров, не стесняющихся выбирать дебюты, ведущие к более или менее оживленным партиям. Едва ли мы ошибемся, если отчасти этому обстоятельству припишем его успех в последнем турнире. Одни из его противников уже "отвыкли" от оживленной и обоюдоострой игры, а другие к ней еще не "привыкли"…право!"64 Но и Мизес в свою очередь был самого высокого мнения об игре российского чемпиона: "Ни у кого шахматы не были более искусством и творчеством, чем у Чигорина"65.
Затем шельмуется Рудольф Шпильман, "поселившейся сейчас в Стокгольме". Видите ли, почему-то не захотел попасть в лапы нацистов и сгореть в Освенциме, как другие евреи, – вот и поселился в нейтральной стране. Шпильман имел неплохой счет с чемпионом мира, да и играл в открытые шахматы, меньше всего заботясь об очках.
Был теоретиком. Написал много теплых слов в адрес М.И. Чигорина, полные пиетета и уважения. Шельмует его Алехин и за отсутствие в книге "Теория жертвы" так называемой интуитивной жертвы. Но и это присутствует в работе Шпильмана. Каждый может открыть учебник и убедиться. Ибо победитель Земмеринга сам любил интуитивные жертвы. В книге разобрана его партия с А. Рубинштейном из Сан-Себастьянского турнира 1912 г., где была пожертвована целая ладья и расчет вариантов был бессмыслен, надо полагаться на интуицию. Черным по белому Шпильман пишет: "Ее (комбинацию) нельзя было точно рассчитать, но я чисто интуитивно ее оценил и всецело на нее положился"66. Есть еще грехи за Шпильманом. Ну, например, он выиграл матч в 1932 г. у Ефима Дмитриевича и мог бы сыграть матч на звание чемпиона мира, возможно, не хуже Боголюбова. Факты? Пожалуйста. В Киссенгене в 1928 г. и в Карлсбаде в 1929 г. Шпильман нанес два рядовых поражения Капабланке. Или еще более разительный пример: он сыграл тренировочный матч с Максом Эйве накануне завоевания последним звания чемпиона мира у Алехина. И счет был неплохой: +6, -4, =467. Грех напоминать об этом. Но в 1932 г. в "Wiener Schachzeitung" Шпильман опубликовал открытое письмо А. Алехину "Я обвиняю!", где прямо высказал мысль, что чемпион мира воспротивился участию в соревнованиях ряда шахматистов, малоудобных чемпиону мира. Например, не были приглашены Капабланка и Нимцович в те турниры, где играл Алехин (Лондон и Блед). «Что до меня, бедного шахматиста, похоже, и я превратился в "нежелательного конкурента"». В этой статье имеются две аллюзии. Первая – бросающаяся в глаза связь со знаменитой статьей Эмиля Золя "Я обвиняю" в защиту Дрейфуса. Вторая, более скрытая – использование статьи Алехина "Нью-Йоркский турнир 1927 г. как пролог к борьбе в Буэнос-Айресе за мировое первенство", где экс-чемпиону мира предъявлены те же самые обвинения в подборе удобных участников. В турнир 1927 г. не были приглашены экс-чемпион мира Эммануил Ласкер, гроссмейстеры Ефим Боголюбов, Акиба Рубинштейн, Рихард Рети и др. Мы со своей стороны можем отметить, что неприглашение этих мастеров было одинаково выгодным и Капабланке, и Алехину. (Одно время планировался параллельный европейский турнир с участием Ласкера, Боголюбова, Рубинштейна, Рети, Тарраша, Тартаковера – жаль, что он не состоялся.) Всего один раз после этого встретились за шахматной доской Алехин и Шпильман – в 1938 г. на турнире в Маргете. Чемпион мира был первым, несостоявшийся претендент – вторым, партия между ними закончилась вничью. Шпильман старался как никогда: в этом турнире он не проиграл ни одной партии! И это-то при его стиле…
К 10 арийцам Алехин приписал еще трех: Мароци, Харузека и Видмара. Увы, первые двое – евреи. Да и Мароци, и Видмар перекочевали из его нью-йорской статьи в разряд творческих из разряда шахматистов, играющих на результат. Но, может быть, эта "справка" Алехина об арийском происхождении и спасла Гезу Мароци во время войны. Ведь за ним тянулся старый грех – участие в Венгерской революции 1919 г.
Читать дальше