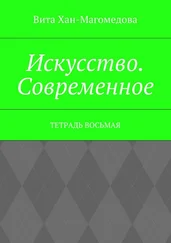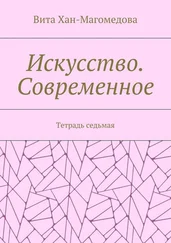«Норма экономического поведения каждого индивида […] состояла как раз во всемерном „расточении“ плодов труда: коллективизм первобытной экономики состоял не в расстановке охотников при облаве, не в правилах раздела охотничьей добычи и т. п., а в максимальном угощении и одарении каждым другого. […] Дарение, угощение, отдавание — основная форма движения продукта в архаических обществах». [120] Там же, с. 405–406.
Напротив, развитие человеческого общества состояло в создании все более усложняющейся системы ограничений для этой «формы движения продукта», в «отрицании» указанного исходного пункта:
«На заре истории лишь препоны родового, племенного и этнокультурного характера останавливали в локальных рамках „расточительство“ и тем самым не допускали разорения данной первобытной общины или группы людей. Это значит, что раздробленность первобытного человечества на огромное число общностей или общин (причем разного уровня и пересекающихся), стоящих друг к другу так или иначе в оппозиции „мы — они“, было объективной хозяйственной необходимостью». [121] Там же, с. 405.
Как наглядно видно из приведенного отрывка, поршневский анализ постоянно обращен к проблемам, лежащим на стыке, на пересечении различных наук, в данном случае, как минимум, четырех — истории, экономики, социальной психологии и культурологии. Ниже, в разделе Экономическая наука, будет показано, что, по Поршневу, создание описанной системы первобытных ограничений взаимного «расточительства» означает и формирование первобытных отношений собственности.
Восприятие творческого наследия Поршнева в культурологии — весьма необычное явление.
С одной стороны, так случилось, что культурология сегодня все больше начинает претендовать на роль той самой «синтетической науки об общественном человеке или человеческом обществе», о строительстве которой мечтал Поршнев.
И популярность его имени среди культурологов едва ли не самая высокая в науках вообще. Во всяком случае, в России.
С другой стороны, современная культурология абсолютно не соответствует поршневским критериям «синтетической науки об общественном человеке или человеческом обществе». Элементы генетического анализа феноменов культуры, наиболее важные для Поршнева, здесь крайне редки. Поэтому неудивительно, что в отличие от имени Поршнева его действительные взгляды в культурологии совершенно непопулярны. В рамках этой науки не только не разрабатывается поршневское творческое наследие, не проводятся исследования на базе его научной парадигмы, но эти последние там, строго говоря, даже не слишком хорошо известны.
4. Эволюционная этика Ф. Хайека
Вместе с тем, нельзя не отметить удивительную схожесть взглядов некоторых западных исследователей праволиберальных взглядов, крайне враждебно относящихся к марксизму, и взглядов Поршнева. В знаменитой книге Ф. Хайека «Пагубная самонадеянность (Ошибки социализма)», которую автор рассматривал в качестве вклада в «последовательную разработку эволюционной этики», «эволюционной теории моральных традиций», «эволюционной теории нравственности», [122] Ф.А. Хайек. «Пагубная самонадеянность (Ошибки социализма).» — М.: Новости, 1992. С. 21, 22.
он пишет о фундаментальном противоречии между биологическим инстинктом и человеческой культурой:
«Правила человеческого поведения (особенно касающиеся честности, договоров, частной собственности, обмена, торговли, конкуренции, прибыли и частной жизни) […] передаются благодаря традициям, обучению, подражанию, а не инстинкту, и по большей части состоят из запретов („не укради“), устанавливающих допустимые пределы свободы при принятии индивидуальных решений. […] Зачастую эти правила запрещали индивиду совершать поступки, диктуемые инстинктом […]. Образуя фактически новую и отличную от прежней мораль (и, будь моя воля, я именно к ним — и только к ним — применял бы термин „мораль“), они сдерживают и подавляют „естественную мораль“». [123] Там же, с. 26.
Хайек так же, как и Поршнев, категорически возражает против применения термина «мораль» к животным; так же, как и Поршнев, подчеркивает «вынужденный» характер необходимости соблюдения норм; так же, как и Поршнев, отрицает происхождение человеческого языка из животных рефлексов и инстинктов:
«Врожденные рефлексы не имеют нравственного измерения, так что „социобиологи“, употребляя по отношению к ним такие термины, как „альтруизм“ […], в корне заблуждаются. Альтруизм превращается в моральную категорию только в том случае, если подразумевается, что мы должны подчиняться „альтруистическим“ побуждениям.» [124] Там же.
«Даже почти всеобщая встречаемость некоторых культурных характеристик не доказывает их генетической обусловленности. Не исключено, что существует один-единственный способ ответить на определенные требования, возникающие в процессе формирования расширенного порядка. […] Существует, может быть, практически единственный способ развития устной речи. Однако наличие во всех языках определенных общих признаков само по себе тоже не доказывает, что они обусловлены врожденными способностями». [125] Там же, с. 34.
Читать дальше