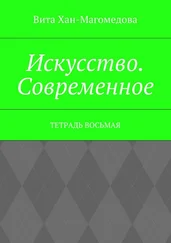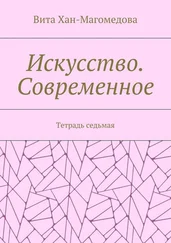Позволю себе ограничиться лишь констатацией того, что эта «рабочая схема» опубликована. [84] Там же, с. 442–485 (разделы: «Вторжение вещей» и «Генезис образов, значений и понятий»).
Попытка даже краткого изложения этой темы займет слишком много места и вынудит меня вторгаться в наименее знакомые мне направления научных исследований. Остановлюсь лишь на понятии «дипластия»: «Дипластия — это неврологический, или психический, присущий только человеку феномен отождествления двух элементов, которые одновременно абсолютно исключают друг друга. На языке физиологии высшей нервной деятельности это затянутая, стабилизированная ситуация „сшибки“ двух противоположных нервных процессов, то есть возбуждения и торможения. При „сшибке“ у животных они после нервного срыва обязательно снова разводятся, а здесь остаются как бы внутри скобок суггестивного акта». [85] Там же, с. 450.
Другими словами, суггестия как инструмент дистантного воздействия навязывает «сшибку» торможения и возбуждения в отличие от интердикции, которая способна вызвать лишь их инверсию.
Дипластия, по Поршневу, — необходимейший элемент генезиса второй сигнальной системы, речи-мышления и собственно психических процессов. Поэтому и недопустимо, по мнению Поршнева, употреблять термин «психика» по отношению к животным. Предложенную схему реконструкции генезиса психических процессов он подкрепил обобщением имеющихся филогенетических и онтогенетических данных, то есть этнографических сведений о наиболее примитивных племенах, с одной стороны, и сведений о начальных ступенях развития ребенка, с другой. Все эти данные подтверждают фундаментальное значение дипластии как исходного пункта речи-мышления.
Значение дипластии для психологии двояко.
С точки зрения логики, дипластия — это абсурд. Признание ее исходным пунктом развития речи-мышления приводит к выводу о втором (наряду с систематическим умерщвлением себе подобных) фундаментальном отличии неоантропа (то есть человека) от остальных животных: люди — единственный вид, способный к абсурду, а логика и синтаксис, практическое и теоретическое мышление являются результатом длительного и сложного процесса превращения абсурда в свою противоположность, результатом «дезабсурдизации абсурда», [86] Там же, с. 470.
«растаскивания» дипластии. [87] Там же, с. 475.
С точки зрения физиологических процессов, дипластия — это эмоция.
Дипластия как навязанная «сшибка» возбуждения и торможения вызывает «потрясение». Именно из этого исходного «потрясения» и выросли все человеческие эмоции, а потому:
«В строгом научном смысле у животных нет эмоций. Просто у них в качестве неадекватного рефлекса (следовательно, тормозной доминанты) нередко фигурируют подкорковые комплексы, являющиеся по природе более или менее хаотичными, разлитыми, мало концентрированными, вовлекающими те или иные группы вегетативных компонентов. Это люди, наблюдатели, по аналогии с собой трактуют их как эмоции. Такой взгляд, отрицающий явление эмоций у животных, необходим, если мы, с другой стороны, восходя к истоку эмоций у человека, обнаруживаем у него вначале не „эмоции“ во множественном числе, но единую универсальную эмоцию. Лишь с развитием неоантропов эмоция подыскивает „резоны“ и соответственно разветвляется: эмоции поляризуются на положительные и отрицательные, расчленяются по модальности, наконец, получают детальную нюансировку». [88] Там же, с. 472.
Соответственно, эмоции генетически древнее, чем разум (логика), и в поведении человека первичны. «Поляризация» эмоций также достаточно древнее явление, относящееся к периоду, когда уже вполне развитая суггестия вызвала к жизни контрсуггестию, контрконтрсуггестию и, соответственно, их бурное самостоятельное развитие. Но здесь мы вступаем в сферу социальной психологии.
Статьи Поршнева по социальной психологии были одними из самых первых в СССР.
Точно так же, как и его монография, в которой он предельно популярным языком систематически и с единой точки зрения изложил основные проблемы этой науки. [89] См.: «Социальная психология и история.» Второе издание. — М.: Наука, 1978.
Хотя поршневские работы в области социальной психологии достаточно хорошо известны в России, его концепция отнюдь не стала общепризнанной. Не претендуя даже на краткий пересказ поршневской социальной психологии, остановлюсь лишь на ее нескольких важных, на мой взгляд, аспектах.
Читать дальше