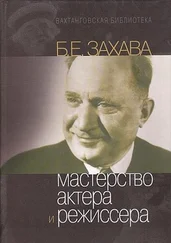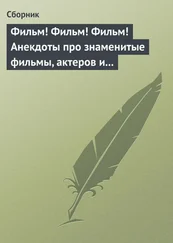При голосовании абсолютное большинство делегатов высказалось за предложение президиума. И это было совершенно справедливо. Надо помнить, в каких условиях правление работало, и как мы все тогда жили.
Вероятно, Губенко что-то существенное потерял на этой своей, как я думаю, искренней, но импульсивной и экстремистской акции. На него, любимого ученика С. Герасимова, бывшего до своей кончины в 1985 году одним из главных, если не самым (фактически) главным, руководителем Союза кинематографистов, сразу же сильно обиделись "старики", - бей, но меру знай. Пожалуй, эта акция не понравилась и радикалам. Кто-то решил, что Губенко слишком мельтешит, высовывается, рвется в вожди. Так, вероятно, с двух противоположных сторон и получил он дополнительные черные шары.
Все равно - это было столь же неожиданным, сколь и не справедливым. Полных сил, талантливых людей отлучали от активной работы в Союзе кинематографистов. Видимо, как-то это отложилось рубчиком на сердце Николая, повлияло на творческое самочувствие. (Нелишне отметить, что в 2001 году на Пятом съезде уже российских кинематографистов Николай Губенко был избран в состав нового правления, что совершенно справедливо.) Впрочем, жизнь не давала ему надолго впадать в рефлексию. Не пройдет и года, как Губенко изберут главным режиссером театра на Таганке, что, с точки зрения общественного признания, с лихвой перекроет его неудачу на Пятом съезде. В том же 1987 году он будет напряженно работать над завершением своего шестого полнометражного фильма "Запретная зона", задуманного еще в 1984 году, а вышедшего на экран в 1988 г.
Не трудно заметить, что это не просто разные даты, в рамках которых режиссер, со свойственной ему основательностью, двигался от замысла к финалу. Это в значительной мере и разные эпохи, разные уровни общественного самосознания и разные этапы исторического развития нашей страны. Короче говоря, мы шли от застоя к перестройке. (Или думали, что шли.) Оба этих понятия достаточно условны, но и несущие в себе иной менталитет, иной образ жизни и требовавшие иного искусства.
***
Возвращаясь в 1984 год, отмечу, что он был годом разочарований и неопределенности. Умеренные реформы, пунктиром намеченные Ю. Андроповым, сменившего Брежнева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС и затем Председателя Президиума Верховного Совета СССР тотчас уходят в песок с его кончиной. К власти приходит присяжной брежневец К. Черненко, плоть от плоти закосневшего партийного аппарата. Тот вроде бы мог торжествовать победу, но у него не было никакой уверенности в завтрашнем дне. Ни "правые", ни "левые", не верили в политическое и просто физическое долголетие Черненко. Ситуация не упрощается, а усложняется с приходом к власти Горбачева. Конкретное наполнение его курса, темпы и характер предполагаемых преобразований в значительной остаются неясными, дискуссионными. Борьба консерваторов и реформаторов в партии и государстве заметно обостряется. Общество меняется буквально на глазах, что, безусловно, сказывается на его социальных требований к искусству. Казавшееся смелым и прогрессивным в нем еще в начале 1988 года, расценивается порою едва ли не как консервативное к его концу. Пышным цветом расцветает социальная и всякая иная демагогия, что идет и от самого Горбачева с его нескончаемым многословием.
Словом, фильм "Запретная зона", начатый тогда, когда никто и слыхом не слыхал о каких-либо серьезных реформах и гласности, должен был подвергнуться и подвергся тяжелому испытанию. Ему подверглись и многие другие художественные фильмы и книги, задуманные и сделанные в период уже развернувшейся перестройки.
Прежние фильмы Губенко, прежде всего, его трилогия, носили в значительной степени антиконформистский характер и, в конечном счете, они даже подрывали основы господствующей мифологии. Или, во всяком случае, их так можно интерпретировать. Как соотносился с ними, с общей ситуацией в художественной культуре, его новая картина "Запретная зона"?.
***
Непосредственным импульсом для ее возникновения послужили трагические события лета 1984 года, когда по нескольким областям Центральной России адским плугом прошелся страшный смерч, сметая с лица земля целые деревни. Тогда о таких ужасных событиях предпочитали умалчивать в средствах массовой информации, или сообщать о них, как говорится, петитом. Так что широкая публика мало знала об этом смерче. В лучших традициях сталинизма, оживших при Брежневе, нас всячески берегли от неприятных известий. Со стихийными бедствиями можно было, что даже порою поощрялось, рьяно бороться на страницах романов и в игровых фильмах. Там они были уже не страшны.
Читать дальше