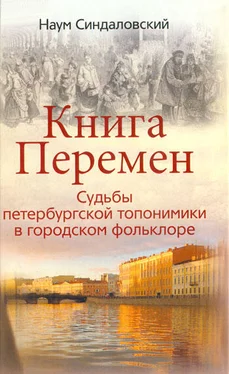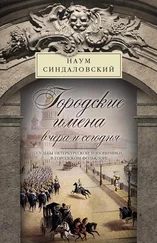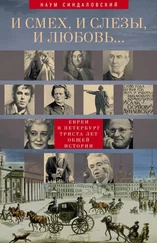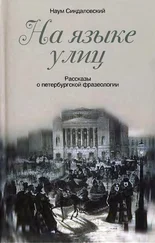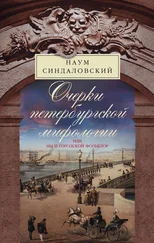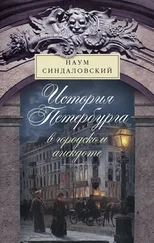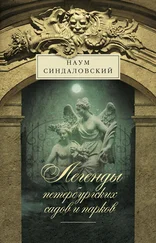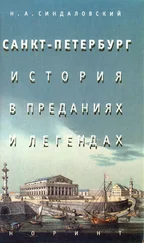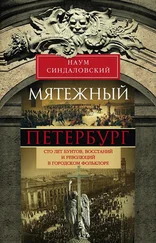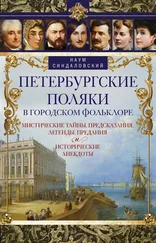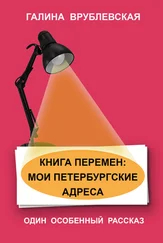Первая четверть XVIII века.В начале петербургского периода истории Купсино принадлежало Александро-Невскому монастырю, а затем было передано в собственность царевичу Алексею Петровичу. Возможно, уже тогда предпринимались неосознанные попытки русифицировать финское название. Во всяком случае, в документах того времени наряду с финским Купсино встречается русское Купчино.
В 1960-х годах группа архитекторов под руководством Д. С. Гольдгора и А. И. Наумова разрабатывает проект застройки Купчина, в основу которого были положены протянувшиеся параллельно линии Витебской железной дороги улицы, названные в честь столиц восточноевропейских государств Белградской, Будапештской, Бухарестской, Пражской и Софийской. Внутренний протест против такой безликой, скучной и утомительной топонимики вылился в попытку создания универсальной мнемонической формулы для запоминания однообразных и монотонных названий: «БЕЛка БУДет БУХанку ПРосто Сушить». Нельзя сказать, что попытка удалась вполне. Мнемоника оказалась довольно неуклюжей. Но выглядит она убедительно, а главное, функцию запоминания выполняет.
Тема удаленности Купчина от центра Петербурга породила целую серию крылатых слов и выражений, которые доминируют как в местном, так и в общегородском фольклоре. «Даже из Купчина можно успеть», – шутят петербуржцы, когда хотят сказать, что времени еще вполне достаточно. А весь так называемый большой Петербург в представлении купчинцев – это «Граждане и гражданки от Купчина до Ульянки».
Самым подходящим сокращением для топонима Купчино оказалось буквенное обозначение далекой Китайской Народной Республики – «КНР». Жители Купчина расшифровывают эту аббревиатуру со знанием дела: «Купчинская Народная Республика», то есть район, предназначенный для простого народа. Для менее щепетильных можно сказать и по-другому: «Купчинский Новый Район». Впрочем, вся народная микротопонимика Купчина так или иначе ориентируется исключительно на дальние страны и континенты: «Рио де Купчино», «Купчингаген», «Нью-Купчино» и даже «Чукчино».
Свою отчужденность от исторического центра купчинцы стараются выразить всеми возможными формами фольклора:
На улице Салова
Девочка Рита
Ухо чесала
Куском динамита.
Взрыв раздается
На улице Салова –
Уши – в Обухове,
Ноги – в Шувалове.
Но еще более чем удаленность купчинцев огорчает оторванность и даже некоторая изолированность их района, граничащая с отчуждением от метрополии. «Где родился?» – «В Ленинграде». – «А где живешь?» – «В Купчине». Ощущение провинциальной обособленности заметно даже в местной микротопонимике. Дома № 23 и 72 при въезде на Бухарестскую улицу в обиходе известны как «Купчинские ворота» в «Купчинград». Некоторой компенсацией за такую ущербность выглядит, если можно так выразиться, «двойное гражданство», присвоенное себе купчинцами. Живут они на самом деле в Петербурге, а Купчино для них всего лишь «спальный район». Хотя гораздо чаще это все-таки «собачий район».
Весь район делится на «Малое» и «Большое Купчино». «Малое Купчино» – это микрорайон, ограниченный Бухарестской улицей и Московской железной дорогой, на котором среди огромных карьеров, заполненных водой (бывших выработок промышленной глины) функционирует Кирпичный завод. В народе «Малое Купчино» чаще называют «Кирпичный», «Карьеры», или «Антенное поле». Здесь и сегодня можно разглядеть странные антенные сооружения бывшего военного радиополигона.
Центральной улицей Купчина является проспект Славы, который снискал репутацию одной из самых перегруженных автотранспортом петербургских магистралей. Особенно это ощущается на пересечении его с Витебской железной дорогой. Среди петербургских водителей этот район называется «Долиной смерти», где самым опасным участком считается проезд под полотном Витебской железной дороги. В этом месте проспект Славы пересекает Белградскую улицу. Среди питерских водителей этот перекресток называется «Белградской ямой».
1703.Территория в северо-западной части Петербурга на северном берегу Финского залива издавна была заселена финно-угорскими народами. Некоторые ученые предполагают, что этот процесс начался более трех тысяч лет назад. Одно из рыбацких поселений под названием Сартон-Лаксы было известно задолго до основания Петербурга. В буквальном переводе этот старинный топоним означал «залив» или «бухта». Некогда эта мелководная часть залива была дном древнего Литоринового моря.
Читать дальше