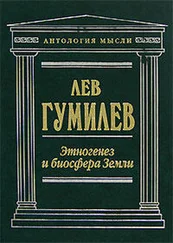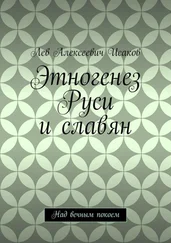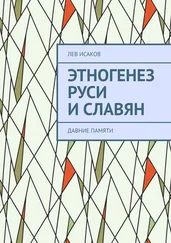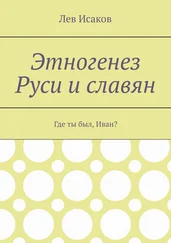Ярким примером пассионария может служить Наполеон I. После египетского похода он стал богатым настолько, что мог прожить остаток жизни без труда. Обыватель так бы и поступил. Наполеон же принял на себя нагрузку непомерной тяжести, с огромным риском и печальным концом. Модусом ею пассионарности было властолюбие. Его тщеславные маршалы ограничивались стремлением к почестям.
Парижские буржуа, потребовавшие в 1814 г. сдачи городе русским, кричали: «Мы хотим не воевать, а торговать!» Это алчность, но не очень сильная, потому что инстинкт самосохранения ее ограничивал. Французские крестьяне того же времени стремились к тому, чтобы тратить силы на приобретение богатства, уже заведомо без риска для жизни, но среди них были и такие, которые ограничивались поддержанием имеющегося достатка, удовлетворяя свою гордость выигрышами у соседей в кегли или домино. Их пассионарность была так мала, что уравновешивалась инстинктом самосохранения, что создает «гармонию» психической структуры. Это – вторая, наиболее многочисленная часть населения.
У третьей группы населения активность имеет иной характер, нежели у гармоничных особей, находящихся у нулевой точки отсчета, и по существу диаметрально противоположна пассионарности. В истории эта группа, которую мы будем называть субпассионариями, наиболее ярко представлена «бродягами», иногда становящимися солдатами-наемниками. В средние века они шли в ландскнехты, в XX в. – в иностранный легион. Они не изменяют мир и не сохраняют его, а существуют за его счет. В силу своей подвижности они часто играют важную роль в судьбах этносов, совершая вместе с пассионариями завоевания и перевороты. Но если пассионарии могут проявить себя без этих «бродяг-солдат», как можно их условно назвать, то те – ничто без пассионариев, ибо сами они не умеют поставить себе ни цели, ни организоваться. Максимум, на который они способны, – это разбой или гангстеризм, жертвой которого становятся носители нулевой пассионарности, т.е. основная масса населения. Но в таком случае «бродяги» обречены: их выслеживают и уничтожают.
Есть соблазн сопоставить пассионариев с «героями, ведущими толпу», а «бродяг-солдат» назвать «ведомыми», но на самом деле механизм действия не столь прост. Испанские Габсбурги и французские Бурбоны, за исключением основателей династий, были заурядными людьми, равно как и большая часть их придворных. Но идальго и шевалье, негоцианты и корсары, миссионеры и конкистадоры, гуманисты и художники – все они создавали такое внутреннее напряжение, что политика Испании XVI и Франции XVI-XVII вв., если изобразить ее как составляющую этногенетического процесса, отражала огромную пассионарность этих этносов.
Остановимся на этом подробнее. «Бродяги-солдаты» как характерологический тип отличаются повышенной реактивностью и соответственно пониженной целеустремленностью. Их активность возникает за счет внешних раздражителей, вызывающих импульсивную реакцию, без расчета и соображений. Такой образ поведения самоубийствен, даже если он не граничит с патологией. У гармоничных людей реактивность уравновешивается слабыми импульсами пассионарности, благодаря чему они соразмеряют свои поступки с заботой о себе, детях и друзьях. Пассионариями же в полном смысле слова мы называем тех людей, у которых инстинктивные импульсы самосохранения подавлены стремлением к реальной или иллюзорной цели. Деятельность их неизбежно направлена не на самосохранение или минутное самоудовлетворение, а на изменение окружения, хотя заслуга принадлежит не их воле, а их конституции. Итак, в основе трех характеристик лежит лишь разная степень выраженности одного признака – пассионарности, а не качественное деление на «героев» и «толпу». Именно поэтому третью группу мы и назвали субпассионариями.
Особенно важно не смешивать отмеченные выше характерологические типы внутри этноса: пассионариев, субпассионариев и основную массу населения с подразделениями классовыми, сословными или этнографическими. Любое из последних включает в себя все три типа, и, наоборот, каждый из типов находится в составе любого класса или сословия. Например, в эпоху расцвета феодализма далеко не все феодалы были пассионариями. Большая часть их сидела в своих замках, собирала имущество, воспитывала детей и с неохотой несла воинскую повинность сеньору, выражавшуюся в участии в войнах в течение 40 дней в год. Зато в крестовые походы добровольно устремлялись тысячи простых людей, бросая семью и родину, причем только часть из них, нанимаемая королями и герцогами за деньги, рассматривается нами как субпассионарии, искавшие «карьеры и фортуны». Многие пилигримы-фанатики были наделены высокой пассионарностью. И даже при образовании этноса инициативная группа никогда не состоит из людей одного типа. Приведем несколько примеров.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу