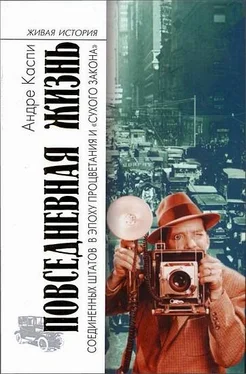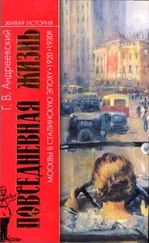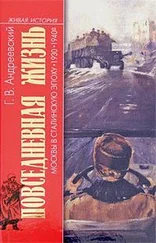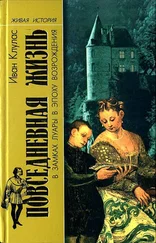Вспомним описание Оклахомы в начале романа «Гроздья гнева» Джона Стейнбека: «В канавах, размытых водой, земля превратилась в пыль и струилась мелкими сухими ручейками. Полевые мыши и муравьиные львы вызывали новые крошечные лавины пыли. И так как яркое солнце палило без устали, листья молодой кукурузы теряли свою упругость и уже не были прямыми как стрела, а согнулись и поникли…. На дорогах, где проезжали повозки, корка подсохшей земли под колесами и копытами лошадей превратилась в пыль. Все, что двигалось по дороге, поднимало облако пыли: пешеход шел по пояс в пыли, повозка взметала ее на высоту изгороди, а за автомобилем она клубилась густым облаком. Пыль еще долго стояла в воздухе, прежде чем снова осесть на дорогу».
Другая серьезная угроза — уничтожение лесов. Территория США, за исключением Великих Равнин, была покрыта лесами. Но леса непрерывно отступали под натиском поселенцев, строящих дома, железнодорожных компаний, изготавливающих из дерева шпалы, наконец, фермеров, выкорчевывающих леса с целью культивирования новых земель и разведения скота.
В 1926 году один из экспертов забил тревогу, призывая остановить уничтожение лесов. [36] Current History. April—September 1926. Vol. 24. P. 197–204.
Свою статью он назвал: «Угроза Америке без деревьев». Вскоре, утверждал он, несколько уцелевших деревьев будут классифицированы как общественные монументы. Не нужно иметь богатого воображения, чтобы представить себе день, когда учитель будет показывать ученикам «последнего монарха расы, царившей прежде на огромных пространствах». Монарх будет окружен металлическим барьером с табличкой: «Это дерево». Особенно впечатляли цифры, приведенные экспертом. Сто двадцать миллионов гектаров леса были превращены в пахотные земли. Невозможно вообразить восстановление лесов. А потребности железных дорог, прессы, алчность лесопильных заводов вносили и продолжают вносить свой вклад в сокращение лесных богатств страны. Американцы не думают о лесе или деревьях, писал он, они мечтают только о бревнах или новых землях, которые начнут эксплуатировать.
Был ли услышан этот призыв к благоразумию и умеренности, по крайней мере, фермерами, которые станут одними из первых жертв бездумного уничтожения лесов? Маловероятно. В 1931 году, по данным Министерства сельского хозяйства, треть поверхности почв подверглась эрозии на четверти культивируемых площадей США. Это много. А на другой четверти эрозия уже началась, и можно было ожидать худшего. Но у большинства американцев той эпохи это не вызывало серьезной озабоченности. Они считали, будто естественные богатства их страны настолько велики, что эрозия не помешает производству необходимой сельскохозяйственной продукции. 120 миллионов гектаров были покрыты травой и ожидали того момента, когда их начнут возделывать. Даже на Юге 40 миллионов гектаров могли быть распаханы и, благодаря химическим удобрениям, способны были дать богатый урожай. В сущности, несомненно одно: фермеры работали по-новому и производили больше, несмотря на бездумное разбазаривание ресурсов. Их цель — не экономить, а продать. Избыток сельскохозяйственной продукции позволял закрывать глаза на настоящие проблемы.
Война породила процветание, одновременно реальное и иллюзорное. Реальное потому, что европейские воюющие державы требовали во что бы то ни стало пшеницу, хлопок, кукурузу, продукты животноводства, а США были единственной страной, способной обеспечить их этим. Дефицит морского транспорта сделал недоступными рынки Австралии и Аргентины. Американское правительство призывало фермеров увеличивать продукцию, расширять посевные площади, что, в конце концов, позволило им разбогатеть. Прозвучал лозунг «Война будет выиграна продуктами питания». И это действительно так — продукты питания были одним из факторов победы союзников.
Результаты были показательны. Если принять индекс цен на сельскохозяйственную продукцию в 1914 году за 100, то он начал возрастать с 1916 года, достигнув 208 в 1918 году и 221 в 1919-м. Доходы сельского хозяйства США увеличились с 7,5 миллиарда в год в 1910–1914 годах до 16,2 миллиарда в 1918 году и 17,7 миллиарда в 1919-м. Наибольшую прибыль получили производители зерна и свиноводы. В штате Айова акр (две пятых гектара), стоивший в начале XX века 82 доллара, поднялся в цене до 200 долларов. Примерно на столько же возросла цена на землю в штатах Иллинойс и Индиана, где выращивали кукурузу. В штатах, где культивировали яровую пшеницу, цены на землю поднимались не столь резко, хотя и были довольно высокими. В Миннесоте, например, стоимость акра возросла с 36 до 91 доллара; в Южной Дакоте — с 34 до 64 долларов. Примерно такая же прогрессия цен наблюдалась в Калифорнии, Колорадо, Айдахо, Монтане, Юте, Вайоминге, где ирригация позволила поднять урожайность злаков. На Западе и Юге страны решили привлекать ветеранов, желающих заняться сельским хозяйством. А фермеры стремились модернизировать хозяйство и улучшать жилищные условия. Деньги на это можно было легко взять в кредит. Они были уверены, что вернут кредит, получив высокие доходы от следующего урожая. Улучшались дороги, школы, церкви, медицинское обслуживание и публичные библиотеки. Будущее было обнадеживающим. Кто не воспользовался бы подобной ситуацией?
Читать дальше