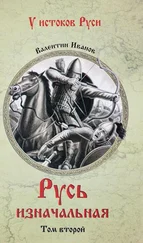Анатолий Иванов - Вечный зов (Том 2)
Здесь есть возможность читать онлайн «Анатолий Иванов - Вечный зов (Том 2)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Вечный зов (Том 2)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.67 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Вечный зов (Том 2): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Вечный зов (Том 2)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Вечный зов (Том 2) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Вечный зов (Том 2)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
- Да знаю я его, - зевнул Колька.
- Николай, я серьезно говорю! - рассердилась учительница. - Я обязательно задам тебе этот дополнительный вопрос.
- Сказал - знаю. На тройку, а знаю.
- Вот, - Берта Яковлевна повернулась к Анфисе, - на тройку...
Пока шел этот разговор, Анфиса немножко успокоилась, отошла. Она знала, почему идет у них эта перепалка о непонятном ей биноме неведомого Ньютона. Однажды Берте Яковлевне все-таки показалась подозрительной какая-то Колькина отметка в журнале, и учительница, удивленно разглядывая классный журнал, вышла из своей комнаты: "Николай, это когда ж я тебя по алгебре спрашивала?" "Здрасте! - воскликнул сын нахально. - Когда я бином Ньютона-то пол-урока вам шпарил?" - "Ну-ка, бери ручку и бумагу". - "Еще чего? На уроке - пожалуйста, переспросите. Я вам в два мига его выведу..."
И Колька быстренько, торопливее, чем положено, скрылся за дверьми.
В тот вечер он долго готовил уроки, чуть не до утра шуршал страницами учебников, и Анфиса догадалась, что этот самый бином он не знает, а сейчас вот учит. "Паразит такой, мошенник!" - думала она тогда о сыне с раздражением.
- На тройку, видите ли, он знает, - повторила учительница. - И доволен. Безобразие! А способный парень. На фронт собираешься! Оценка тогда все-таки подозрительно появилась... А меня, Анфиса, простите, ради бога. Ну, оговорилась я. Я не хотела. Жив, жив ваш муж.
- Ох, не знаю, - проговорила Анфиса обессиленно, глаза ее опять были полны слез. - На сердце тяжко, так тяжко...
* * * *
Кирьян Инютин был жив, только он в это раннее июльское утро лежал на узкой больничной койке новосибирского госпиталя без обеих ног и, как много дней уже подряд, смотрел не мигая в белый квадратный потолок и тупо размышлял о том, что все военные врачи сволочи и скоты, что они не должны были дать ему после наркоза прийти в сознание, ибо отрезать человеку по самый пах обе ноги - это хуже, чем отрезать голову.
- Ну что теперь, сынок... Судьбу, ее думой не пересилить, - тихонько произнесла рядом старая нянечка Глафира Дементьевна. - Уточку вот, сыночек...
- Пошла ты, старая телега! - Кирьян схватился обеими руками за спинку кровати над головой, подтянул свое обрубленное тело повыше па подушку, лицо его покрылось от бешенства испариной. - Уметайся!
Так происходило каждое утро. Всякий раз, когда Глафира Дементьевна предлагала ему утку, Кирьян, оскорбленный чем-то, кричал на нее в бешенстве, не выбирая слов, и всякий раз старая нянечка, тяжко вздохнув, сгибалась с трудом, ставила сосуд возле койки так, чтобы он, опустив руку, мог его достать, и уходила.
Ушла она и на этот раз, шаркая тапочками. Кирьян глядел в ее сутулую, согнутую временем спину, глаза его, переполненные слезами, горели зло.
Когда она вышла из палаты, он, держась теперь за спинку койки одной рукой, поднял с пола ненавистную посудину, холодную, чисто вымытую.
Через некоторое время та же Глафира Дементьевна принесла ему поесть, поставила завтрак на тумбочку, унесла утку, потом вернулась в крохотную палатку, где лежал в одиночестве Инютин, села на выкрашенную белой краской табуретку.
- Ешь, сыночек.
- Ишь ты... нашла сына, - буркнул Кирьян.
- Так что ж... Мне седьмой десяток, тебе пятый. А первого я принесла в шестнадцать годков. Ребенком, почитай, родила. Тогда ведь рано нас, девок, под мужиков клали. Сын же мой старше тебя на четыре али пять годков был. В сорок первом он еще где-то под матушкой Москвой упал... Ешь, я не уйду, пока не поешь.
Когда Кирьяну ампутировали обе ноги, он, придя в себя, отказался принимать пищу и воду, решив в несколько дней уморить себя. В общую палату, где он лежал тогда, пришел начальник госпиталя, генерал-лейтенант медицинской службы, высокий, не старый еще, худощавый мужчина в очках.
- Ты что это устраиваешь? - спросил он строго. - Мы тебя силой кормить будем. Через задний проход.
- Через задний?! - вскипел Кирьян. - Т-ты, глиста в очках... Я тебе самому загоню в этот проход... ножку вот от стула.
Начальник госпиталя побагровел. Но к нему шагнула Глафира Дементьевна, положила, как мать, обе руки на плечи, обтянутые белым халатом.
- Батюшка, Андрей Петрович... Не гневайся. Переведи-ка ты его в одиночную палатку. Тяжко ему тут. Я уж с ним договорюся...
Через час Кирьяна перевезли в одиночную палату. Следом вошла туда Глафира Дементьевна с кружкой молока и тарелочкой жидкой манной каши.
- Не стыдно, кобель такой? - сказала она ворчливо, ставя кружку и тарелку на тумбочку.
- Пошла бы ты отселя! - окрысился на нее Кирьян. Старушка поглядела на него с укором, качнула головой. И Кирьян вдруг почувствовал, как что-то у него надломилось внутри, какой-то стержень, на котором держалась невиданная злость ко всему миру, из разлома, видно, хлынули слезы, затопили глаза. И он сказал первое, что пришло в голову: - Кобелем я никогда не был... Одна баба у меня и была в жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Вечный зов (Том 2)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Вечный зов (Том 2)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Вечный зов (Том 2)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.