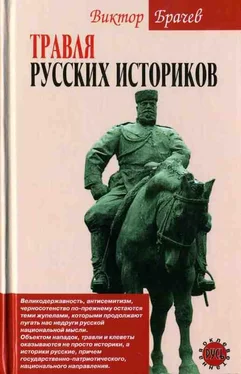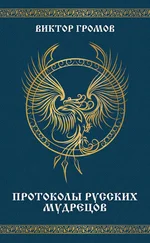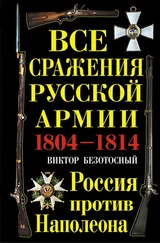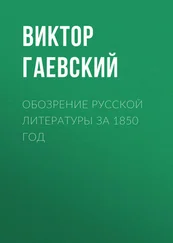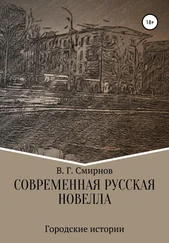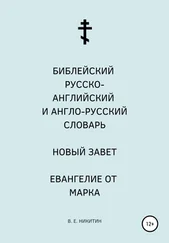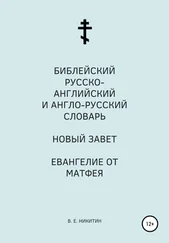Все это было бы прекрасно, если бы не одно «но». Сплоченность и высокое положение этой четверки в институте (следует иметь в виду, что академик А. А. Фурсенко к тому же еще и недавний академик-секретарь Отделения истории РАН и член ее Президиума) привели к тому, что вот уже на протяжении нескольких десятилетий она фактически «держит в руках» весь институт.
Собственно, этого не скрывает и сам А. А. Фурсенко, подробно поведавший в своем интервью, как и с какой целью они подбирают кадры для своего института и от каких кадров и каким образом избавляются. «Могу сказать, — говорит он, — что суд нашего ученого совета беспощаден. Мы «прокатываем» людей при очередной переаттестации и их увольняем. Таких случаев было несколько. У нас всегда был достаточно строгий отбор. Нужны были авторитетные рекомендации, чтобы человек к нам поступил, а в принципе мы обычно брали тех людей, которые являлись учениками наших профессоров, которые работали в институте. Эта практика себя оправдала. Никто не был уволен. Как известно, уволить человека труднее, чем нанять. Но при проведении очередного конкурса ученым советом мы договаривались и «прокатывали» их со счетом 17 «против» и 2 «за». У нас два раза это было. Мы людей просто изгоняли» {399} 399 Историк А. А. Фурсенко рассказывает // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. № 7. С. 157.
.
Крайне странными, если не сказать больше, выглядят в этой связи сетования коллеги и единомышленника А. А. Фурсенко Р. Ш. Ганелина о созданной по инициативе И. Я. Фроянова на историческом факультете так называемой кадровой комиссии (председатель А. В. Гадло), задача которой, по его словам, заключалась в том, чтобы предотвратить проникновение на факультет так называемых деструктивных элементов {400} 400 Ганелин Р. Ш. Открытое письмо членам ученого совета исторического факультета СПбГУ // Санкт-Петербургский университет. 2000. 12 октября. № 24. См. также: Клио. Журнал для ученых. 2000. № 2(11). С. 341.
.
Как видим, в практике деятельности по подбору или, правильнее, отбору кадров для своего родного института путем тайного сговора перед голосованием отдельных членов ученого совета ничего предосудительного Р. Ш. Ганелин не усмотрел. Зато деятельность созданной на истфаке по решению его ученого совета легального органа для подготовки бумаг по кадровым вопросам (кстати, ни одна из предложенных кафедрами кандидатур на имевшиеся вакансии не была отклонена) почтенный ученый готов объявить чуть ли не преступлением против науки.
Как представляется, академик А. А. Фурсенко, быть может, и сам того не подозревая, в одночасье раскрыл самую «страшную» тайну своего родного института: кто и как подбирал кадры историков, работающих в этом учреждении в последние 30 лет. Что же касается духа этих кадров, то дух этот, если судить по числу подписантов антифрояновского письма, самый что ни на есть либерально-демократический, прозападный. Патриотов в Институте российской истории явно не держат.
Мы не случайно так подробно остановились на Санкт-Петербургском институте российской истории. Ибо это многое разъясняет в «деле» И. Я. Фроянова. В частности, такое на первый взгляд странное обстоятельство, как активное участие в антифрояновской кампании преподавателей кафедры всеобщей истории Российского педагогического университета имени А. И. Герцена, в то время как их коллеги с кафедры русской истории от подписания «Письма 140» решительно уклонились. Разгадка в том, что заведующим кафедрой всеобщей истории в этом учреждении является профессор Владимир Носков — ученик А. А. Фурсенко, а вот среди членов кафедры русской истории учеников у последнего, как американиста, понятное дело, не оказалось. Отсюда и результат.
Но вернемся к анализу подписей под «Письмом 140». Из работающих на историческом факультете Санкт-Петербургского университета преподавателей и сотрудников под ним, как уже отмечалось, не подписался никто. Другое дело — подписи «обиженных» в свое время И. Я. Фрояновым бывших сотрудников истфака, вынужденных вследствие этого поменять в свое время место работы: искусствовед профессор А. Н. Немилов (Академия художеств), доктор исторических наук Г. С. Лебедев (НИИКСИ СПбГУ), доктор исторических наук Г. Л. Соболев (РГИ СПбГУ), доценты И. Д. Чечот (НИИИ РАН) и Н. Е. Копосов (филологический факультет СПбГУ).
Обращает на себя внимание сравнительно большая группа сотрудников филологического факультета СПбГУ: доценты А. Л. Берлинский, В. М. Монахов, Д. Н. Копелев, С. А. Тахтаджян, Е. С. Ходорковская, Д. Р. Хапаева, Ю. В. Шор. Особняком среди них стоит подпись директора Музея истории СПбГУ кандидата исторических наук археолога И. Л. Тихонова, которого в свое время И. Я. Фроянов буквально спас от увольнения с директорской должности.
Читать дальше