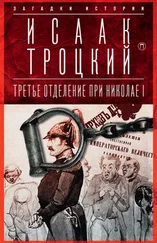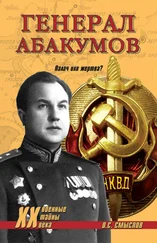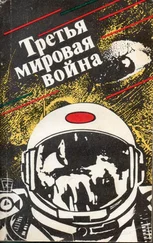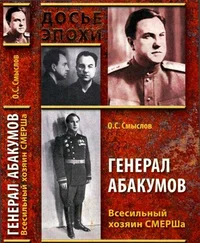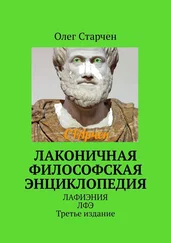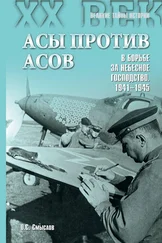В докладе отмечено: «По высочайшему повелению предоставлено московскому генерал-губернатору не тревожить Боткину в отдельном жительстве от мужа, и по общему совещанию их родственников, под руководством московского городского головы, обеспечить ее содержание в той мере, какая будет названа справедливою, а также постановить относительно нравственного воспитания детей Боткина и сохранения их состояния» [521].
Только «высочайшее повеление» могло разрешить отдельное проживание супругов. Подобная практика все более вторгалась в жизнь, как альтернатива долгому судебному производству. В материалах Третьего отделения сохранились сведения о семейной ситуации полковника Еропкина: семейное несогласие, дошедшее до раздельного проживания, длилось около 20 лет. В основе — супружеская неверность и связь с вдовою штабс-капитана Поповою, которая «по бесхарактерности и нетрезвому поведению приобрела над ним влияние и постоянно вооружала против жены» [522]. Сначала он снабжал супругу видами на жительство и выдавал на содержание 600–1000 руб. в год. Однако, видимо испытывая денежную нужду, в 1862 г. он не дал согласия на ее поездку за границу для лечения и прекратил выдачу видов и содержания. По соглашению с Поповой, Еропкин подал в 1863 г. в Санкт-Петербургскую духовной консисторию иск о разводе. Как утверждалось в записке: «…для оклеветания жены прибегал к самым предосудительным средствам, не успев в этом удалился из Санкт-Петербурга и переезжал в разные губернии для того, чтобы, замедляя окончание бракоразводного дела, уклониться от обеспечения жены средствами к жизни» [523]. По жалобе законной супруги последовало высочайшее повеление, вменявшее Еропкину в обязанность впредь до окончания начатого им судопроизводства выдавать ей на содержание по 1000 руб. в год.
Не случайно в вышеупомянутом «Обзоре деятельности Третьего отделения» признавалось: «Закон наш, по-видимому, предвидел только счастливые браки и потому направлен лишь к тому, чтобы сделать эту жизнь неразрывною», а бракоразводный процесс идет в консисториях «при крайних затруднениях и злоупотреблениях» [524].
По действующему законодательству основанием для прекращения брака могло быть доказанное прелюбодеяние другого супруга или неспособность его к брачному сожитию, а также осуждение к лишению всех прав состояния или ссылке на жительство в Сибирь с лишением всех особенных прав и преимуществ. Брак мог быть расторгнут только формальным духовным судом. Но даже собственные признания, если, по мнению суда, они не согласовывались с обстоятельствами дела и не сопровождались доказательствами, несомненно его подтверждающими, могли не учитываться. Признание в прелюбодеянии, нарушении «святости брака», зачастую не могло привести к искомому освобождению от семейных уз.
Материалы дела «По просьбе разведенной жены подполковника Елены Берновой урожденной гр. Буксгевден о снятии с нее осуждения на всегдашнее безбрачие за преступную связь с юнкером Самаржи» представляют тому доказательство. Как видно из документов, 7 марта 1858 г. подполковник Бернов обратился к тверскому епархиальному начальству с ходатайством о расторжении брака. Основанием для положительного решения было представлено собственноручное письменное сознание его супруги «в непозволительной связи». На суде Е. Бернова не созналась в измене и заявила, что писала признание «будучи принуждена к тому жестоким его с нею обращением и угрозами». Свидетелями со стороны мужа выступила прислуга, под присягой подтвердившая, что «действия, происходившие между Берновой и Самаржи в спальне, доказывали, что они, несомненно, прелюбодействовали». Причем горничная свидетельствовала, что признание написано при ней без принуждения, а дворовый человек показал, что застал Бернову «в самом действии прелюбодеяния с Самаржи». Кроме того, следствие установило, что «Самаржа посещал ее в отсутствие мужа поздно вечером, когда она уже находилась в постели, а иногда проводил в ее спальне целые ночи». Результатом стал тот самый вердикт о «всегдашнем безбрачии», который и обжаловался в обращении к императору [525].
На стороне Е. Берновой выступил ее дядя, отмечавший в письме, что суд необоснованно доверился свидетельским показаниям, так как все выступавшие были либо крепостные обвинителя, либо служащие истцу за плату; что его племянница была введена в заблуждение, запугана, не знала русского языка и написала признание, чтобы добиться развода и освободиться от притеснений мужа. Однако итоговый доклад Третьего отделения от 10 февраля 1860 г. венчала резолюция императора: «Решение Святейшего Синода принять к исполнению» [526].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Абакумов Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] обложка книги](/books/27001/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven-cover.webp)