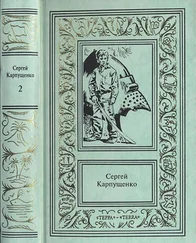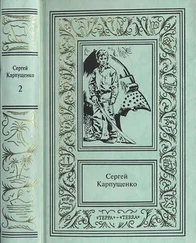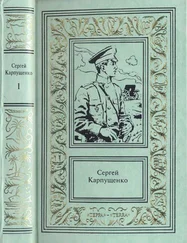- Уходить надо, - шепнул Томашевский, и они вышли в коридор, к часовому, оставив в сводчатой комнате того, кто сильно был похож на спящего человека.
- Все в порядке, идем за заключенной, - желая говорить твердо и беззаботно, сказал Николай часовому. - Не хочешь ли, братец, во дворе побыть? Мы быстро, не замерзнешь. Покури вот наших папирос, пока мы ходим.
Караульный, видя щедро раскрытый портсигар, не отказался и заграбастал сразу три папироски, сказав с улыбкой:
- Ладно, постою, только уж поторопитесь - время ныне зимнее.
Только солдат ушел, как Николай и Томашевский, не говоря друг другу ни слова, но связанные сейчас каким-то общим чувством, прислушиваясь к глухим звукам, проникающим в мрачный коридор тюрьмы через стены, свернули направо, потом налево, и тут перед ними открылась огромная, квадратная в плане лестничная клетка, металлические марши которой хитро пересекались, имели мостики, галереи, ведущие, как поняли мужчины, к камерам. Паутина железной сетки закрывала проемы, и все это сложное сооружение, казалось, было измыслено неизвестным архитектором совсем не для чьего-либо удобства, а, напротив, чтобы вызвать у обитателей тюрьмы ещё более сильное чувство подавленности и беззащитности перед безумно страшными вещами, которые назывались "люди", "правосудие" и "жизнь".
- Наверх, к тем камерам! - указал рукой Николай на лестницу, круто уносящуюся вверх, хотя он и не знал, почему именно эта дорога привлекла его. Они взбежали на одну из галерей, где сразу же увидели двух надзирательниц, одетых в гимнастерки и мужские штаны, заправленные в сапоги.
- Где Вырубова, мы из ЧК! - подошел к одной из них Николай.
Предоставить свой мандат он не мог, потому что бумага так и осталась лежать на столе убитого коменданта.
- Здесь нет такой, - отрицательно покачала головой женщина с темным, испитым лицом и сиплым голосом.
Но голос Николая был услышан не одной лишь надзирательницей - тотчас в камерах-одиночках, крошечных, с зарешеченными окошками, началась какая-то возня, послышались чьи-то сладострастные вздохи, исторгаемые измученными долгим воздержанием женщинами - воровками, убийцами, проститутками с источенными сифилисом лицами. Те, кто слышал шаги проходящих мимо их камер мужчин, бросались к железным дверям, приникали к окошкам. Глаза женщин горели огнем животной страсти, они выли, как волчицы, бросая вслед проходившим:
- Ну куда вы, дядечки! Такие хорошие мужички!
- Ко мне, ко мне зайдите! Меня, меня возьмите!
- Кого ищете, соколики? Какую Вырубову, а? А я тебе шо, хуже? Глянь-ка, покажу тебе одну штучку, ну-ка, посмотри!
Николай и Томашевский пытались выяснить у них, где находится политическая Анна Вырубова, но женщины или бесстыдно кривлялись, или начинали браниться по-черному, плевались, задирали подолы своих арестантских платьев, и вся тюрьма, включая самые дальние закоулки, охваченная каким-то бесовским пылом, пламенем болезненного возбуждения, выла, и вой этот прокатывался волнами из одного угла здания в другой. Надзирательницы хрипло кричали на заключенных, грозили им карцером, расстрелом, но вой не мог уняться, и Николай, никогда прежде не видевший буйства толпы, был подавлен общим безумием.
И вдруг на третьем этаже, заглянув в одно из окошек, Николай увидел женщину, которая не кричала и не подбегала к двери, - это была полная женщина, но полнота её казалась болезненной, рыхлой. Она сидела на койке, забравшись на неё с ногами, какими-то уродливо толстыми, обхватив колени руками и глядя на окошко двери обезумевшими от страха глазами.
- Заключенная Вырубова? - негромко спросил он, узнавая в искаженных страданием чертах лица арестантки знакомые черты.
- Да, это я, - так же тихо отозвалась сидящая женщина. - Меня... на расстрел?
- Узнаете потом, - для чего-то очень строго сказал он, как будто эта строгость сейчас могла помочь обмануть надзирательниц. И, уже обращаясь к одной из них, ещё более строго и властно сказал: - Немедленно отоприте дверь. Приказ коменданта!
- А где же письменное распоряжение? - лениво подошла к Николаю толстая, разжиревшая на обкрадывании скудного арестантского пайка женщина в гимнастерке и фуражке.
- Мы из Чрезвычайной комиссии, дура! - прокричал Томашевский, отбрасывая крышку лакированной коробки маузера и демонстрируя надзирательнице рубчатый эбонит рукояти пистолета.
- Я вам не дура. Разрешение давайте, - спокойно сказала надзирательница, как видно, дорожившая местом куда больше, чем жизнью.
Читать дальше