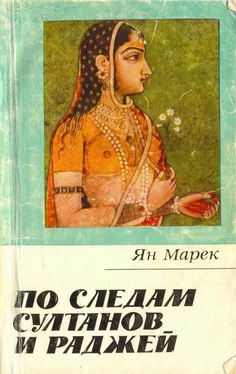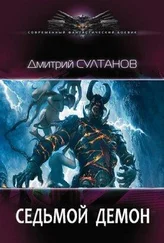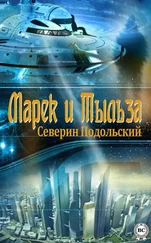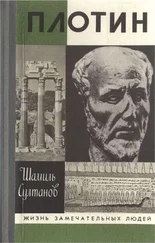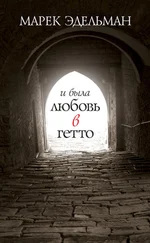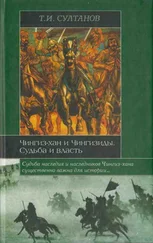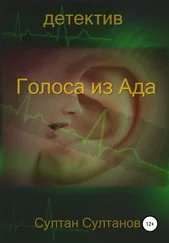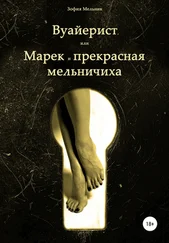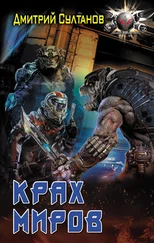Я не считал, сколько ступенек ведет на верх двадцатипятиметрового портала. Но, когда мы пролезли через угловатое отверстие к солнечному свету, голова моя закружилась, и я чуть не упал на раскаленный солнцем двор. Перил здесь нет, поэтому я крепко прижался спиной к прогретому своду купола и лишь через несколько минут отважился посмотреть вниз.
По старому городу как будто разбросали небольшие макеты–двойники мечети Атала. Каждую стерегли такие же импозантные башни, каждая имела похожую михрабовую стену, и в архитектуре каждой можно было усмотреть гармоничную смесь индуистских и мусульманских элементов. На пригорке у реки широко раскинулась султанская крепость с основательными оборонительными сооружениями, местами, правда, уже разрушенными. В центре покрытого травой двора крепости возвышался довольно высокий минарет. Господин Пракаш был не совсем прав, когда утверждал, что в Джаунпуре нет ни одного минарета…
Под крепостью быстрый поток Гомати разбивался о пятнадцать красноватых быков старого моста, связывающего две части главной улицы. На дальнем конце моста каменный лев боролся с молодым слоном. Говорят, это место расположено в самом сердце княжества. Поэтому в стародавние времена именно отсюда велся отсчет расстояний во все концы государства.
Красивый джаунпурский мост немного напомнил мне Карлов мост в Праге. Здешний городской магистрат до настоящего времени сдает мост внаем усердным торговцам полотном, тесьмой и сукном, вокруг которых целый день толпятся покупатели.
— О том, как строили этот мост, рассказывается в одной красивой легенде, — перехватив мой взгляд, сказал один из гидов. — Во времена султанов из рода Шарки два берега были связаны лишь приставленными друг к другу лодками. За переход на другую сторону надо было платить. Однажды наш город посетил император Акбар. Вечером он решил покататься на лодке. На берегу он увидел плачущую бедную женщину. Император спросил ее, о чем она плачет. Женщина рассказала, что живет за рекой и у нее нет денег, чтобы заплатить за переход по лодочному мосту, и поэтому она не может сегодня вернуться к своим детям. Акбар перевез ее на своей императорской лодке, а на следующий день приказал наместнику Муниму Хану построить каменный мост на том месте, где плакала несчастная женщина. Наместник выполнил приказ императора, и новый мост назвал «Пул–и Акбари» — «Мост Акбара». Так его называют и в наши дни.
Я с трудом оторвал взгляд от захватывающей дух картины. Но нужно спешить вниз, ведь еще сегодня я хотел бы успеть осмотреть место захоронения «владык Востока», почивающих вечным сном в Большой мечети. На этот раз господину Пракашу удалось без труда нанять двух рикш до заброшенного уголка Джаунпура, где над убогими лачугами неестественно возвышается Джами масджид (Пятничная мечеть) султана Хусейна Шарки.
Рикши остановились возле могучей лестницы, ведущей на высокую каменную площадку, с трех сторон ограниченную башнями. Четвертая сторона — «михрабовая стена». Ее крепкая кладка опирается о скошенные цилиндрические опоры, благодаря чему она больше напоминала, пожалуй, крепостную стену, чем место молитвы. На внешней стороне мечети, вокруг двора, тянулись сводчатые аркады, разделенные деревянными перегородками на несколько квадратных помещений. Частную жизнь этих клетушек охраняли лишь легкие портьеры или же невысокие дверки из покоробившегося картона; и те, и другие были казарменно помечены строгими номерами.
— Здесь живут беднейшие слои мусульман, в основном кули и поденщики, — объяснил мне господин Пракаш. — Комитет, в ведении которого находятся фонды мечетей, разбил галерею на десятки небольших комнат и передал их внаем беднякам: нужны были деньги на текущий ремонт мечети. От городского магистрата и центрального правительства много не дождешься, поэтому Комитет вынужден заботиться о состоянии этого памятника архитектуры сам. Правда, жилье здесь не очень удобное, но все–таки есть крыша над головой для тех людей, которым иначе пришлось бы спать на улице.
Действительно, крышу над головой люди здесь имеют, но солнышко сюда вряд ли когда заглядывает. Прямо перед галереей, на которой мы стояли, на небольшом пригорке возвышался полуразвалившийся мавзолей. Тут за ветхой стеной под каменными надгробными досками покоятся султан Ибрагим Шарки и его семья. О том, как он умер, местные жители рассказали мне довольно романтическую историю. Когда заболел один из членов султанской свиты литераторов, персидский поэт и теолог Шихаб–уд–дин Мухаммед из Даулатабада, султан пришел приободрить его. Он очень уважал поэта и в соответствии с исламским обычаем, взял кубок, налил в него воды и несколько раз провел им вокруг головы больного), приговаривая: «О Аллах, устрани болезнь моего ближнего, лучше пошли ее на мою голову. Отдаю свою жизнь за него». Аллах, вероятно, принял его жертву. Поэт вскоре выздоровел, а султан заболел и через несколько дней скончался.
Читать дальше