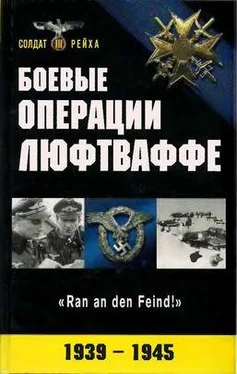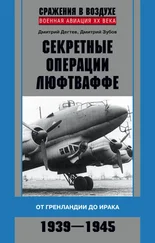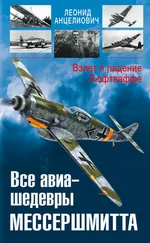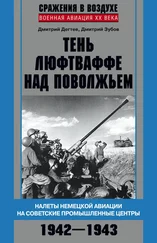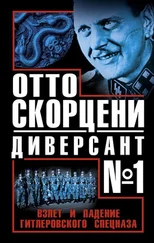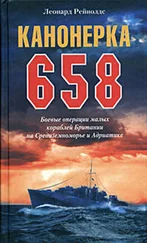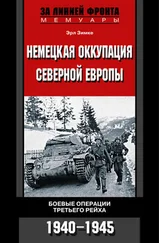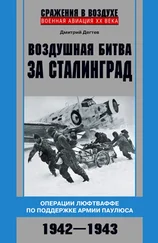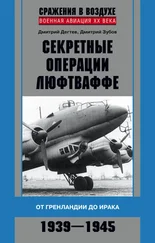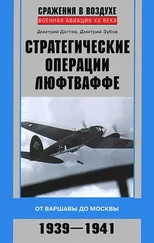Что касается снабжения и административных вопросов, то здесь особых трудностей не возникло. Так, немцами были накоплены большие запасы бомб и боеприпасов, а также топлива. Рост производства и строгая экономия позволили в течение зимы и весны 1944 года увеличить запасы авиационного топлива до уровня не менее 420 тыс. тонн, не считая резерва Верховного командования — около 120 тыс. тонн. Таким образом, всего для различных целей люфтваффе располагали 540 тыс. тонн топлива. Запасы авиационного топлива в распоряжении 3-го воздушного флота во Франции, в Бельгии и Голландии к концу мая превышали 20 тыс. тонн, и их должно было хватить более чем на месяц активных боевых действий. Однако при достаточно хорошей обеспеченности материальными ресурсами уже к началу мая начали возникать сложности с комплектованием. Расширение истребительной авиации и в целом трудное положение с пополнениями летного состава препятствовали доукомплектованию бомбардировочных частей, а дальнейшее развитие системы станций наведения и аэродромных служб люфтваффе ввиду нехватки личного состава пришлось ограничивать.
В результате описанных выше усилий наземная инфраструктура люфтваффе на Западе накануне высадки союзников была в основном приведена в удовлетворительное состояние и полностью подготовлена к прибытию подкреплений, когда бы ни возникла потребность в них. Однако при этом фактической переброски частей не происходило, поскольку требовалось поддерживать на прежнем уровне силы ПВО Рейха. Также, поскольку направление основного удара не было определено, сыграло роль и нежелание подставить самолеты под удар авиации союзников при подготовке к высадке десанта.
Развитие противокорабельной авиации
В июне 1943 года немецкая противокорабельная авиация достигла самого низкого уровня численности и боевой эффективности за все время войны. В основном это было вызвано потерями торпедоносцев на Средиземноморье зимой и летом 1942–1943 годов, в результате которых в наступательных действиях могли принимать участие всего две авиагруппы, насчитывавшие в сумме около 50 торпедоносцев.
Соответственно, в срочном порядке была начата интенсивная работа по расширению противокорабельной авиации и разработке новых вооружений. К осени 1943 года наконец стал поступать в боевые части долгожданный Хе-177, и были сформированы три новые части, одна из которых была вооружена Хе-177, а оставшиеся две — До-217, причем все самолеты были способны нести управляемое оружие, а именно: планирующие бомбы Хе-293 и управляемые по радио бомбы FX. Одновременно с этим зимой 1943/44 года происходили перевооружение и усиление базировавшейся на юге Франции эскадры KG.44, прежде занимавшейся вооруженной разведкой и взаимодействием с подводными лодками, для ведения более активных боевых действий. Дополнительные Хе-177 были направлены в эту эскадру.
Одновременно планировалось дальнейшее усиление противокорабельной авиации. На этот раз — за счет переобучения экипажей дальних бомбардировщиков для действий в качестве торпедоносцев. Таким образом, командование люфтваффе надеялось получить к июню 1944 года сбалансированные силы из примерно пяти авиагрупп торпедоносцев и примерно того же числа групп бомбардировщиков, несущих управляемое оружие. Проводились также эксперименты по переделке в торпедоносец Ме-410, обладавший более высокой скоростью и маневренностью, чем Ю-88, однако по техническим причинам самолет оказался непригодным для этих целей.
Кроме перечисленного выше, для борьбы с кораблями и судами противника было разработано и принципиально новое оружие. Оно представляло собой составной самолет, получивший название «Мистель», состоявший из загруженного взрывными зарядами Ю-88, на верхней части фюзеляжа которого крепился Me-109, пилот которого управлял сцепленными самолетами и имел возможность сбросить Ю-88 на подлете к цели. Это оружие предполагалось применять против линкоров и других крупных кораблей союзников, поддерживающих высадку. Однако в срок удалось изготовить лишь несколько образцов, а немногочисленные попытки применения этого оружия полностью провалились.
Таким образом, немцы могли надеяться, что для отражения морского десанта союзников в их распоряжении будет сильная воздушная группировка из 450 самолетов, которая послужила бы мощным и грозным дополнением к дальней бомбардировочной авиации. Однако обстоятельства сложились так, что полностью осуществить программу наращивания сил оказалось невозможно в результате срыва весной 1944 года программы строительства бомбардировщиков в пользу увеличения выпуска истребителей. Как следствие, к апрелю 1944 года численность сил противокорабельной авиации так и не превысила 200–250 машин, а к началу июня она снизилась примерно до 190 самолетов. Более того, части, принимавшие участие в боевых действиях в течение зимы 1943/44 года, понесли большие потери. Особенно уязвимыми оказались торпедоносцы, средние потери которых составляли 15–25 % от числа самолетов, заходивших на цель. Таким образом, возник острый дефицит экипажей, прошедших специальную подготовку и имевших достаточный опыт для эффективного применения торпедоносцев, и это обстоятельство не позволило им добиться сколь-нибудь значительных успехов, когда пришло время противодействовать высадке союзников.
Читать дальше