Петру очень хотелось увидеть среди пленных Карла. Уже на исходе сражения, сгорая от нетерпения, он непрестанно переспрашивал: «Где же мой брат Карл?» В какой-то момент, перепутав, за «брата Карла» приняли захваченного в плен «маленького принца» Максимилиана Эммануила Вюртембергского. Разобрались быстро. Так же быстро, как и «пережили» отсутствие Карла на пиру, — все перекрывала радость победы.
Царь был очень оживлен. Он чувствовал: Полтава — его звездный час. В расшитых богатым узорочьем шатрах Светлейшего Петр не скупился на похвалу. «Перепало» даже приглашенным на пир шведам. Едва ли Реншильд и генералы могли еще утром предположить, что к вечеру им придется вкушать яства и пить вина, налитые в бокал самим царем. Между тем Петр и наливал, и угощал, не упуская, впрочем, возможности подтрунить над самонадеянностью невольных «гостей»: «Господа, брат мой Карл приглашал вас на сегодня к обеду в шатрах моих, но не сдержал королевского слова; мы за него исполним и приглашаем вас с нами откушать».
Тогда же царь завел разговор о самом желанном — о мире. На признание Реншильда и Пипера о том, что они не одиножды советовали королю прекратить войну и заключить мир, Петр воскликнул: «Мир мне паче всех побед, любезнейшие». В этом не было никакой рисовки. Петр в самом деле всем сердцем желал скорейшего окончания войны, чтобы заняться неотложными и, с его точки зрения, более важными делами преобразования страны. Но он искал мира на своих условиях. И откуда ему было знать, что из-за упрямства Карла XII и происков неких «доброжелателей», смертельно испугавшихся растущего могущества России, до мира придется пройти еще долгий и длинный путь — более длинный и более долгий, чем от первой Нарвы до Полтавы.
Конечно, этот пир на поле боя, щедро пропитанный еще не остывшей кровью, пир, во время которого продолжали страдать и умирать тысячи своих и чужих раненых и изувеченных людей, кажется не совсем уместным. Но это кажется нам, а не им. Пир — совершенно в духе времени и даже не дань, как утверждали некоторые историки, древнерусской традиции. Торжествовали те, кто наравне с погибшими и покалеченными рисковал своей жизнью и мог также лежать распростертым на земле или корчиться от боли под пилой полкового хирурга. Значит, не пришел их смертный час, миновало. А раз миновало, то следовало бурно радоваться жизни, так, как должно было радоваться в эпоху барокко с ее тягой к театральности и экзальтированности.
Лишь к ночи, когда усталость стерла первые эмоции, возникла необходимость осмыслить последствия «превеликой виктории». Правда, для полного осмысления нужно было много времени и исторического пространства. И все же главное Петр уловил сразу. Отныне вся история его царствования раскалывается на две половины — до и после Полтавы.
Не приходится сомневаться, что одной из первых «после полтавских» дум царя была дума о Петербурге. Теперь он мог быть твердо уверен не просто в будущности любимого творения, а в его столичном предназначении. Как часто случалось с Петром, последняя мысль была высказана им в весьма своеобразной форме. Из письма царя князь-кесарь узнал, что «заветная» мечта государя о превращении Петербурга в «царствующий град» близка к осуществлению: «Ныне уже без сумнения желание Вашего величества резиденцию вам иметь в Питербурхе совершилось чрез сей упадок конечной неприятеля». «Конечный упадок» — это про Полтаву. Едва ли Федор Юрьевич при всей своей безграничной преданности к Петру рвался на берега своенравной Невы. Однако он хорошо понимал подобные знаки внимания. Теперь надо собираться в дорогу, отправляться навечно. Для него Полтава-Петербург — новая столица — стали звеньями одной логической цепи в истории строительства Российской империи.
Не была забыта Петром в этот радостный день и Екатерина. В тот же вечер он наскоро написал ей «из лагору»: «Матка, здравствуй! Объявляю вам, что всемилостивый Господь неописанную победу над неприятелем нам сего дня даровати изволил, единым словом сказать, что вся неприятельская сила на голову побиты, о чем сами от нас услышите; и для поздравления приезжайте сами сюды. Piter». В праздничной суете почти не заметным осталось еще одно невольное «следствие» Полтавы, свидетельствующее о маленьком сдвиге в личных отношениях государя и его «матки»: Петр впервые обратился напрямую к Екатерине Алексеевне, перестав соединять ее имя с именем ее приставницы Анисьи Толстой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
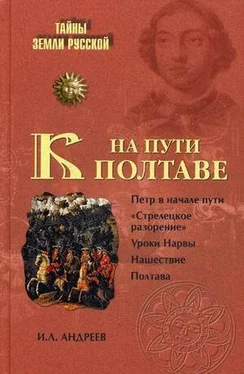

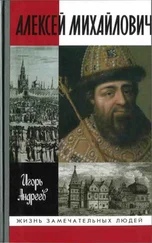

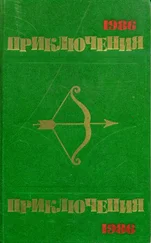

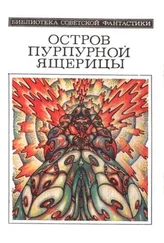
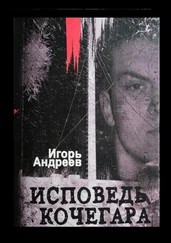
![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)


