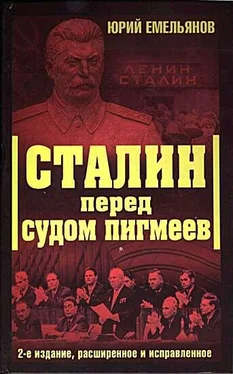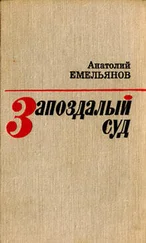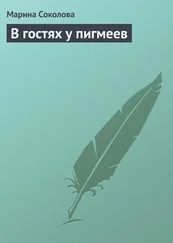Так как почти все советские люди знакомились с докладом, воспринимая его на слух, они не имели возможности внимательно проанализировать аргументы Хрущева, а поэтому увидеть их очевидные логические натяжки, передержки, а то и откровенную ложь. Некритическому восприятию доклада способствовала и существовавшая тогда высокая степень доверия к слову, исходившему от руководства страны. А ведь доклад был представлен от имени ЦК КПСС, зачитан его Первым секретарем и содержал ловко подобранные высказывания В.И. Ленина (правда, весьма вольно прокомментированные Н.С. Хрущевым). Создавалось впечатление, что руководство страны решило поделиться с рядовыми членами партии и ВЛКСМ давно и тщательно хранимыми государственными тайнами.
Хрущев говорил просто и доходчиво. Он постоянно перемежал свой рассказ личными воспоминаниями, которые красочно излагал. Хрущев говорил как очевидец событий, о которых до него никто никогда не свидетельствовал. Впервые советские люди получали широкий доступ к информации о том, что делалось в кремлевском кабинете Сталина. Несмотря на то, что в стране много раз произносилось имя Сталина, а также слова «Советское правительство», «руководство партии», советские люди имели скудные и туманные сведения о том, как работали высшие руководители страны. Поразительным образом, но в СССР впечатления от общения со Сталиным чаще публиковались в книгах, написанных иностранными наблюдателями, такими, как Анри Барбюс, Лион Фейхтвангер и Эллиот Рузвельт. Предметы, о которых не было принято говорить или освещались лишь «дозировано» в редких публикациях, стали главными темами доклада Хрущева: как принимались решения в Кремле, личное поведение Сталина. Докладчик то и дело обращался к некоторым из делегатов съезда, которые якобы могли подтвердить сказанное им. И хотя они не получали слова, создавалось впечатление, что они могли бы дополнить докладчика множеством других, ярких примеров.
Многих подкупало и то, что докладчик предлагал простые объяснения для многих трагичных событий прошлого, о которых знали советские люди (репрессии, поражения первых лет войны), и текущих проблем советского общества.
Наконец, трагический пафос доклада заставлял слушателей подавлять возможные сомнения в его правдивости. Докладчик приводил страшные свидетельства об истязаниях людей и письма тех, кто испытал жестокие пытки. Эти трагические истории не могли не вызывать сочувствия и волнения слушателей. Хрущев создавал впечатление, что ему больно говорить о мрачных страницах советской истории, и это лишь усиливало ощущение того, что он — искренен и откровенен.
В то же время, несмотря на трагичность того, о чем говорил Хрущев, для многих доклад отвечал оптимистическим представлениям о постоянном прогрессе советского общества. Доклад вписывался в канву решений советского правительства по улучшению жизни советских людей. Казалось, что программы быстрого подъема сельского хозяйства, производства потребительских товаров роста жилищного строительства, а также инициативы СССР, направленные на разрядку международной напряженности, свидетельствовали о возможности быстро решить давно назревшие вопросы, которые по непонятным причинам долго не решались. Многим казалось, что руководство страны во главе с Хрущевым, осуществляя всевозможные нововведения, сможет быстро улучшить их жизнь. Этому оптимистическому настроению отвечало и решительное осуждение былых беззаконий, начавшееся с освобождения кремлевских врачей и продолженное после ареста Берии и других. Как бы горько ни было многим людям принять жестокое осуждение Сталина, для них доклад отвечал представлениям о торжестве правды над неправдой, добра над злом. В своих воспоминаниях будущий Председатель Совета Министров СССР H.A. Рыжков писал: «В 56-м году состоялся XX съезд, и я впервые душой услышал партию. И голос ее прозвучал так громко, так честно, с такой болью и откровенностью, что я не счел для себя возможным оставаться по-прежнему сам по себе. В декабре 56-го года меня приняли в КПСС». Можно поверить и словам Рыжкова, утверждавшего, что он был не один с такими настроениями и «достаточно велик был «призыв XX съезда».
Позже послесъездовский период стали называть «оттепелью» по названию повести Ильи Эренбурга, первая часть которой была опубликована за два года до XX съезда в мартовском номере журнала «Новый мир» за 1954 год. Название повести показалось созвучным позитивному восприятию XX съезда как события, положившего конец «замороженному» состоянию советского общества. Положительный герой повести «новатор» Соколовский, обличая «консервативного» директора завода Журавлева, так размышлял о судьбах страны: «Нужны другие люди… Романтики нужны. Слишком крутой подъем, воздух редкий, гнилые легкие не выдерживают… Просвещать мало, нужно воспитывать чувства… Мы много занимались одной половиной человека, а другая стоит невозделанная». Туманные фразы о «романтиках», людях, способных выдержать «крутой подъем» и призванных стать воспитателями чувств, захватывали воображение части интеллигенции и впоследствии породили миф о «детях XX съезда», которые принялись смело «возделывать» советских людей.
Читать дальше