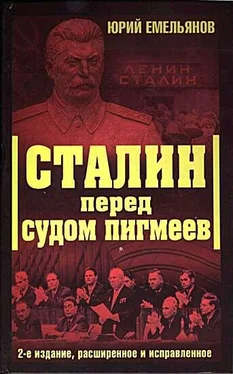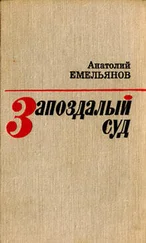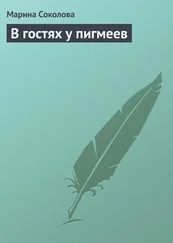Правда, Боровик оговорился, что его «сравнение Родины с самолетом хромает». На деле «хромала» попытка Боровика опровергнуть Бондарева. Во-первых, в своем выступлении Боровик невольно вынужден был подтвердить правоту Бондарева, объявив, что «самолет подняли в воздух», не думая о наличии посадочной площадки. Во-вторых, жизнь подтвердила предвидения Бондарева относительно провала перестройки по-горбачевски, быстрого превращения «прорабов перестройки» социалистического общества в могильщиков социализма и превращения советских людей в «узников коммерческой потребительской ловушки». Если же воспользоваться образом Боровика, то последовавшие события можно описать так: «самолет», направляемый «прорабами перестройки», после хаотичных кружений угодил в топкое болото.
В то же время сравнение Боровика «доперестроечной» жизни с болотом, в котором мог погибнуть Советский Союз, позволяло убеждать советских людей В том, что под руководством Горбачева они чудом уцелели от неминуемой катастрофы и поэтому ему следует безоговорочно верить и впредь.
Несмотря на выступление Бондарева, а также глухое ворчание ряда делегатов по поводу публикаций либеральной печати, XIX конференция КПСС поддержала Горбачева и его политику. В резолюции «О гласности», с докладом о которой выступил А.Н. Яковлев, не было высказано ни единого критического слова в адрес антисоветских публикаций последнего времени. Напротив, в резолюции однозначно положительно оценивалась «обстановка гласности в деятельности… средств массовой информации» и заявлялось, что «утверждение открытости и правдивости… позволили партии, всему народу лучше понять свое прошлое и настоящее». Резолюция осудила «попытки сдерживать гласность в деятельности… средств массовой информации».
В своем заключительном выступлении на конференции М.С. Горбачев говорил, что «одной из героинь конференции была гласность… И хотя мнения были не однозначные, но, думаю, и здесь мы в конечном счете сошлись на том, что необходимо всячески поддерживать средства массовой информации, их работу по разгребанию, расчистке от всевозможных негативных явлений, доставшихся нам от прошлого, стимулированию смелых, неординарных, интересных людей, настоящих героев перестройки». О том, что обращение к прошлому означает, прежде всего, изображение советской истории как времени массовых репрессий, свидетельствовала концовка его выступления. М.С. Горбачев напоминал о предложении Н.С. Хрущева на XXII съезде КПСС «о сооружении памятника жертвам репрессий». Заявив, что «поднимался этот вопрос и на XXVII съезде партии, но не получил практического решения», Горбачев погрешил против истины. Два года назад такой вопрос на съезде не «поднимался». Теперь Горбачев провозглашал: «Восстановление справедливости по отношению к жертвам беззакония — наш политический и нравственный долг. Давайте, исполним его сооружением памятника в Москве».
Подводя итог конференции, Горбачев излучал оптимизм. Он уверял, что «конференция дает четкий ответ: через демократизацию, экономическую реформу и преобразование политической системы мы сделаем перестройку необратимой; через революционную перестройку мы придем к качественно новому, гуманистическому и демократическому облику социализма».
Вряд ли кто-нибудь из делегатов конференции ожидал, что через три с половиной года после ее закрытия партия будет распущена и запрещена, Советский Союз — ликвидирован, а «социализм» станет бранным словом. Но эти события стали логическим следствием успеха Горбачева на партийной конференции, который вдохновил его сторонников в руководстве КПСС и за его пределами. После завершения партконференций А.Н. Яковлев полностью взял под свой контроль идеологическую деятельность ЦК КПСС.
В ходе своей поездки в Прибалтику, состоявшейся летом 1988 года, А.Н. Яковлев провел немало бесед с партийными руководителями и интеллигенцией трех республик. В своих публичных выступлениях в Риге и Вильнюсе, опубликованных в газетах «Советская Латвия» и «Советская Литва», Яковлев недвусмысленно осудил недавнее заявление Е.К. Лигачева; который сказал: «Мы исходим из классового характера международных отношений… Иная постановка вопроса вносит лишь сумятицу в сознание советских людей и наших друзей за рубежом». Публичное осуждение того, что еще недавно считалось аксиомой советской идеологии, означало отказ от непримиримой борьбы с идейно-политической кампанией, которую страны Запада при помощи выходцев из Прибалтики вели в течение десятков лет против Советской власти в Эстонии, Латвии и Литве. Одновременно в ходе своих бесед Яковлев дал понять, что надо поддерживать неформальные общественные движения, вне зависимости от их идейно-политической ориентации. Во время своего пребывания в Риге, как свидетельствует М.Ю. Крысин, А.Н. Яковлев назвал осуждение националистических настроений аморальным». По сути, он открыл «зеленую улицу» курсу на выход Эстонии, Латвии и Литве из СССР.
Читать дальше