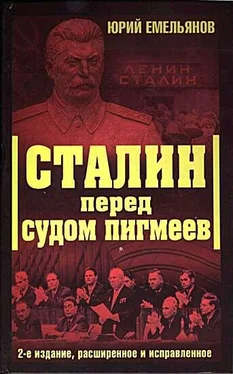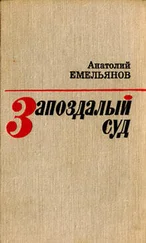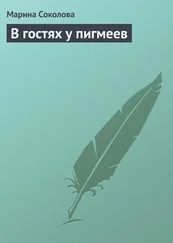Критические замечания в адрес пьесы Шатрова вызвали гневное письмо «По новому кругу?», подписанное К. Лавровым, М. Ульяновым, М. Захаровым, А. Гельманом и другими. Артисты, и драматурги в письме, опубликованном в «Правде» от 29 февраля 1988 года, прямо связывали сценическую судьбу пьесы Шатрова с судьбой горбачевской перестройки: «Перестройку и гласность наша страна поистине выстрадала, поэтому любые попытки повернуть процесс вспять, какими бы высокими лозунгами они ни прикрывались, вызывают глубочайшую тревогу. Именно эту тревогу вызвала у нас критическая кампания вокруг новой пьесы М. Шатрова «Дальше… дальше… дальше!» Получалось, что «гласность» должна была быть улицей с односторонним движением и осуждение антисталинских произведений должны были пресекаться как вызов демократии и прогрессу.
Тем временем свое несогласие с пьесой Шатрова выразила ленинградская преподавательница химии Нина Андреева. В своем письме, написанном в ответ на предложенную «Советской России» дискуссию по актуальным проблемам отечественной истории, она заявляла, что «Шатров искажает историю социализма… явно игнорирует объективные законы истории». Попутно Андреева высказывала свое возмущение рядом других публикаций на темы советской истории. Как преподаватель, она высказывала свои сомнения в их пользе для воспитания молодежи. Она писала: «Что, к примеру, могут дать молодежи, кроме дезориентации, откровения о «контрреволюции в СССР на рубеже 30-х годов», о «вине» Сталина за приход к власти в Германии фашизма и Гитлера? Или публичный «подсчет» числа «сталинистов» в разных поколениях и социальных группах?» Нина Андреева возмущалась тем, что «взахлеб расхваливаются романы и фильмы, где линчуется эпоха бури и натиска, подаваемая как «трагедия народов».
Андреева решительно осуждала «словотечение о «терроризме», «политическом раболепии народа», «всеобщем страхе», «бескрылом социальном прозябании», «нашем духовном рабстве», «всеобщем страхе», «засилии хамов у власти». Она считала, что объективное «видение истории и современности несовместимо с политическими анекдотами, низкопробными сплетнями, остросюжетными фантазиями, с которыми можно нередко встретиться сегодня».
Андреева настаивала на пересмотре отношения к Сталину, господствовавшего в средствах массовой информации. Она предлагала обратиться к воспоминаниям советских военачальников о Сталине. Вспомнила она и высказывания Черчилля о Сталине. Она Призывала дать Сталину «конкретно-историческую, внеконъюнктурную оценку, в которой проявится — по историческому результату! — диалектика соответствия личности основным законам развития нашего общества». При этом Андреева подчеркивала: «Сразу же отмечу, что ни я, ни члены моей семьи не имеем никакого отношения к Сталину, его окружению, приближенным, превозносителям», Она особо отметила, что «один из родственников был репрессирован и после XX съезда реабилитирован. Вместе со всеми советскими людьми я разделяю гнев и негодование по поводу массовых репрессий по вине тогдашнего партийно-государственного руководства». Это не мешало Андреевой высказать свое полное несогласие с антисталинской кампанией: «Здравый смысл решительно протестует против одноцветной окраски противоречивых событий, начавшей ныне преобладать в некоторых органах печати».
Письмо Нины Андреевой, опубликованное в «Советской России» от 13 марта 1988 года под заглавием «Не могу поступиться принципами», вызвало поток письменных откликов в редакцию «Советской Россию». Многие поддерживали автора, другие резко осуждали. Было очевидно, что письмо не оставило советских людей равнодушными.
Неожиданно письмо получило поддержку на самом высоком уровне. Выступая на совещании редакторов 15 марта, Е.К. Лигачев, как он свидетельствует в своих мемуарах, «посоветовал редакторам прочитать совсем свежую, вчерашнюю статью «Не могу поступиться принципами». В этой статье привлекло именно то, что меня особенно интересовало в те дни… — неприятие сплошного очернительства, безоглядного охаивания прошлого».
Такая позиция Лигачева не была случайной. Не являясь поклонником Сталина и тем более репрессий 30-х годов (в своих мемуарах Лигачев положительно оценил XX съезд КПСС; напомнил он и о репрессированных родственниках его супруги), секретарь ЦК КПСС не стал мириться с огульным оплевыванием советской истории. Как он писал в своих мемуарах, его возмущали «современные Геростраты», которые, «перечеркивая собственные кандидатские и докторские, опрометью кинулись сокрушать все святыни прошлого: пожалуй, самый яркий здесь пример — это историк Ю. Афанасьев. Они действовали как хищники, терзавшие наше общество, разрушавшие историческую память народа, оплевывавшее такое святое понятие, как патриотизм, порочившее чувство гордости за Родину». Еще осенью 1987 года Лигачев, выступая в городе Электросталь, вступился за советское прошлое. Он говорил о порочности попыток представить его «как цепь сплошных ошибок, заслонить фактами необоснованных репрессий подвиг народа, создавшего могучую социалистическую державу».
Читать дальше