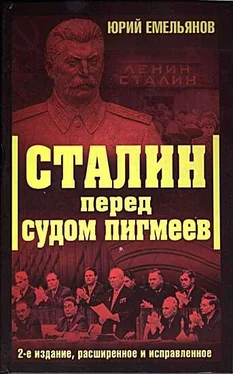К сожалению, многие из представителей интеллигенции не обладали смелостью и честностью, которая была свойственна герою рассказа А.П. Чехова «Огни» Ананьеву. Известно, что он вдруг осознал, что он — молодой инженер, по сути, не умеет самостоятельно мыслить, что все его «умственное и нравственное богатство состояло из специальных знаний, обрывков ненужных воспоминаний, чужих мыслей», что его «психические движения несложны, просты и азбучны». К тому же, мало находилось смелых людей, подобных другому чеховскому герою фон Корену, который спрашивал своего близкого знакомого: «Зачем он… не читает, зачем он так мало культурен и мало знает». Но, возможно, что обладатели дипломов и аттестатов не поверили бы чеховским героям и не пожелали следовать примеру великого ученого Ивана Павлова, сказавшего: «Никогда не стыдись признаться себе в том, что ты — невежда».
К сожалению, получение аттестатов и дипломов для значительной части современной интеллигенции знаменовало прекращение ими усилий по самообразованию. Прочтение же какой-то книги по тому или иному вопросу или даже просмотр телепередачи нередко создавали у них иллюзию в том, что они стали знатоками еще одной темы. Острой самокритичности, которую проповедовали Чехов, Павлов и другие выдающиеся деятели России, явно недоставало многим современным интеллигентам. Зачастую они ссылались на темп современной жизни, оправдывая леность ума, нелюбознательность, а также самодовольство своим положением «интеллигента».
Самомнение, мешавшее заметить нехватку знаний или их утрату, способствовало тому, что многие люди, считавшие себя интеллигентами, не замечали банальности своих рассуждений, неспособности отличить вздорный вымысел или дремучие предрассудки от последних достижений науки. Нежелание признаться в собственном невежестве приводило к упорству в приверженности к нелепейшим идеям, касались ли они экономики и истории, медицины и сообщений о неопознанных летающих объектах. Поэтому в этой среде так легко принимали на веру однозначные «обличительные» суждения относительно Ивана Грозного, Петра Первого, Александра Невского. Последнего со злорадством именован «коллаборационистом».
Эти оценки тужили такими же «паролями» для входа в кружки либеральной интеллигенции, как и убогий набор высказываний русских классиков художественной литературы. Из мыслей Чехова было выхвачено лишь его замечание о том, как он «выдавливал из себя раба». Эти слова либеральные интеллигенты постоянно повторяли, считая, что они давно сделали то, что долго было не под силу Чехову. Из Гоголя они взяли на вооружение фразу про «дураков» России и ее плохие дороги. И эта фраза служила знаком их презрения к «отсталой» стране, в которой они «были вынуждены мучиться». Из Достоевского повторяли фразу про «слезинку ребенка». А это означало осуждение ими всяческих революций, особенно же Октябрьской, и придавало им ощущение смелого бунтарства.
Как и дореволюционные интеллигенты, немало лиц умственного труда находилось в «оппозиции» к властям и существующему строю. Справедливо отмечая многие проблемы страны и нелепости ряда сложившихся порядков, они, преувеличивая свои знания, огульно издевались над «глупостью» всех и вся, а особенно начальства. Таким образом, они компенсировали свои неудачи или свое подчиненное положение. Немалые возможности для подобной психологической компенсации открывались во время атак на высокие авторитеты, когда приводились «неопровержимые свидетельства» их ничтожности по сравнению с их критиками. И хотя порой эта критика адресовалась давно скончавшимся деятелям, она создавала иллюзию «смелой» борьбы за правое дело.
И хотя преследования за подобные высказывания давно ушли в прошлое, авторы критических выступлений предпочитали произносить их в узком кружке друзей и знакомых, которые либо разделяли такие же взгляды, либо готовы были простить ораторам крайности в их заявлениях, так как были с ними в хороших отношениях. Такие выступления создавали ощущение причастности к подпольной борьбе против несправедливых порядков. Впечатление о своем сходстве с отважными подпольщиками царских времен или периода фашистской оккупации, описанными в советской литературе и изображенными во многих советских кинофильмах, усиливалось постоянными подозрениями в том, что все телефоны «прослушиваются», а кругом находятся «стукачи». Эта игра в «подпольную» борьбу вносила немалое разнообразие в жизнь ряда интеллигентов. Изображая застолье интеллигентов в спектакле «Старый новый год» по комедии драматурга Рощина, Калягин и другие артисты МХАТа шепотом, но с пафосом произносили «крамольный» тост: «За свободу!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу