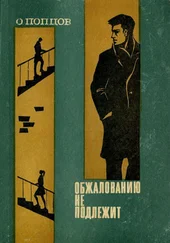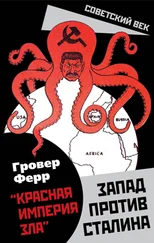Последнее в свою очередь означает необходимость переосмысления советской истории в рамках совершенно иной концепции. Какой именно? Ниже мы попробуем в нескольких абзацах сформулировать главные из черт такой парадигмы, опирающейся на доступные первичные свидетельства.
БОЛЕЕ ТОЧНАЯ ПАРАДИГМА СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ
В 1930-х годах СССР столкнулся с чередой заговоров в высших эшелонах государственной власти, которые охватили генералитет Красной Армии и получили всесоюзный размах. Заговорщические группы не гнушались ни убийств, ни актов саботажа, ни изменнических контактов с эмиссарами враждебных держав. Перед лицом таких событий руководители государств (независимо от типа их социально-политического устройства) прибегают к решительным силовым действиям.
Когда внезапно раскрывшаяся измена пронизывает самые верхи, тогда преодоление опасных для страны тенденций «нормальными» конституционно-бюрократическими методами практически неосуществимо. В ситуации кризиса государственной власти становятся понятны (если не неизбежны) крупномасштабные отступления от норм уголовного и процессуального права, многие связанные с этим невинные жертвы и какое-то число тех, кому, несмотря ни на что, удалось избежать ответственности за совершенные государственные преступления.
Но массовым репрессиям суждено было стать не только реакцией на угрозу национальной безопасности. В обстановке паники, естественным образом возникшей вследствие неожиданно раскрытой цепочки заговоров, Ежов с группой первых секретарей ВКП(б) воспользовался обстановкой и направил острие репрессивной политики против тех, кто не имел никакого отношения к антигосударственной деятельности. К их числу, как отмечает Юрий Жуков, а с ним ряд других исследователей, принадлежали именно те, кто в случае проведения альтернативных выборов в Верховный Совет по новой Конституции 1936 года не стал бы голосовать за кандидатов от партии. Историк подчеркивает:
«Широкое руководство — члены ЦК, первые секретари обкомов, крайкомов, ЦК национальных компартий — это как раз те, кто не желал альтернативных выборов. Почему? Да потому, что за все, что они сделали за несколько лет коллективизации и индустриализации, означало одно: что при тайном голосовании никто за них не проголосует. Когда за них не проголосуют как за депутатов Верховного Совета, в ЦК им, несомненно, скажут: тебя население твоей области, твоего края не поддерживает. Как ты можешь возглавлять партийную организацию? И это было бы бескровное отстранение полуграмотной партноменклатуры от рычагов власти… Развязав репрессии, партократия и создала ту ситуацию, при которой альтернативные выборы были уже невозможны. Они бы неизбежно привели к гражданской войне. Поэтому тогда пришлось от них отказаться». [354]
Известно также, что Ежов и его подручные из НКВД с помощью пыток, запугивания и фальсификации уголовных дел на многих невинных граждан (в том числе на членов партии) добивались от них самооговоров и лживых признаний в участии в антисоветских организациях и заговорах. Впоследствии сам Ежов и его заместитель по Наркомату внутренних дел Фриновский признавались, что, прибегая к фальсификациям уголовных дел, они стремились скрыть подготовку своего собственного государственного переворота.
В соответствии с вырисовывающейся новой парадигмой Сталин и его ближайшие соратники следовали принципам советской демократии и пытались воплотить их через систему всеобщих и равных, прямых и тайных выборов с выдвижением (что особенно важно) 2–3 кандидатов на одно место. Однако многие партийные руководители не хотели таких выборов и в случае их проведения готовились не допустить выдвижения и голосования за альтернативных кандидатов. Попытки повернуть СССР в демократическое русло предпринимались неоднократно: в конце Великой Отечественной войны, затем в 1947 году и, наконец, на XIX съезде КПСС (октябрь 1952). После смерти Сталина приверженность тем же идеалам — отстранить партию от управления страной и передать власть выборным Советам — продемонстрировал (по крайней мере на словах) Лаврентий Берия. Но после отстранения и убийства Берии при пособничестве Хрущева и подстрекательстве других членов Президиума вопрос больше не поднимался.
Впрочем, перед нами не стоит задача изложить, какой могла быть новая концепция истории сталинского времени. Значительно большее внимание уделялось нежеланию ученых-антикоммунистов отказаться от устаревшей и изжившей себя «антисталинской парадигмы».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
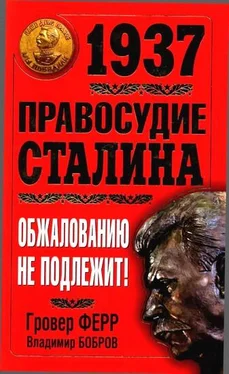
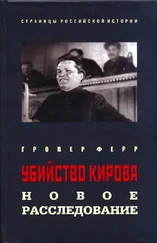

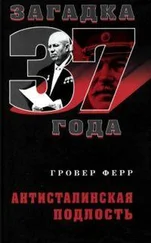

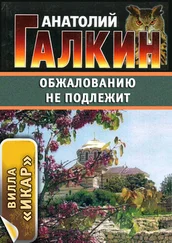
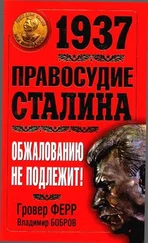
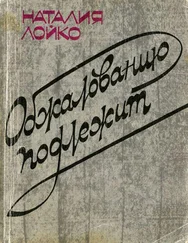
![Андрей Земляной - Сын Сталина - Рокировка. Сын Сталина. Джокер Сталина [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414508/andrej-zemlyanoj-syn-stalina-rokirovka-syn-stalin-thumb.webp)